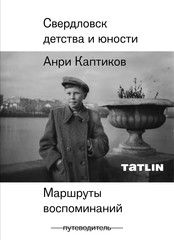Воспоминания о старом Екатеринбурге

- Текст:Анри Каптиков4 июля 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
Я – свердловчанин, но рос в старом Екатеринбурге, в полутора кварталах от колыбели города – Монетки*, – и с детских лет я от него неотделим.
Познание города начал ещё ребёнком. Помню, в морозный, солнечный день, когда мне не было и пяти, отец зашёл в один дом на Энгельса, а меня почему-то оставил на улице. Замёрзнув и не захотев ждать дольше, я тронулся и самостоятельно пришёл на нашу квартиру на Максима Горького, хотя она была в трёх с лишним кварталах.
Ходил с родителями, но лет с семи и один. Сперва это было открытие нового, даже просто любопытство. Но с 13-14-летнего возраста пошло то, что сам уже называл «меланхолическими прогулками». Постепенно превращался в подобие Мечтателя из «Белых ночей», хотя эту вещь Ф.М. Достоевского ещё не читал. В архитектурных стилях тогда не разбирался, а уж умение «читать фасады» пришло лишь на старших курсах учёбы в Ленинграде. Пока же вот выдержка из юношеского дневника (25 апреля 1964 г.): «Утром этого серого пасмурного дня я бродил по набережной Рабочей Молодёжи, наслаждаясь пейзажем старого Екатеринбурга, особенно привлекательного в такую погоду. Это моя питательная почва, в которой лежат мои корни. Эти старые дома с резными наличниками и чугунным узорочьем оград и балконов – мои друзья и успокоители… Да, это моя родина, пусть не молодая… Ей, только ей хочу отдать свою любовь и привязанность…»
Уже в ту пору я не мыслил архитектуру в отрыве от тех, кто её населял: «Все эти милые сердцу, крепко срубленные из дерева или красиво выстроенные из кирпича, низенькие, не так уж часто двухэтажные домики так живо хранят воспоминания о старом Екатеринбурге и его спокойном, неторопливом, размеренном укладе жизни, столь свойственном хозяевам этих домов. Это были большей частью люди среднего достатка, не особенно богатые, но и нечасто знавшие нужду, нетрудно и тихо добывавшие свой хлеб на службе, люди преимущественно скуповатые, но честные, а подчас и добрые, носители отстоявшихся устоев и трезвые, не лишённые житейской мудрости. Они могли иметь известную, а иногда и высокую культуру, умели поесть и уж, конечно, повеселиться на многочисленных праздниках…Но мне почему-то рисуются улочки старого Екатеринбурга не в шумные дни праздников, а когда мягкими хлопьями тихо ложится снег. Такими они, пережив все потрясения, пришли из давних лет в моё детство, отдельные запахи которого я сохранил, и сохранил на всю жизнь» (17 декабря 1963 г.).
На родных моих улицах архитектурная и природная среды сливались воедино. Запись под настроение: «Запушённые инеем деревья, затейливые узоры ветвей, крупнозернистый, искрящийся на солнце серебристо-серый снег, туманная дымка вдали, милые старые домики и исключительный, местами даже оранжево-жёлтый тон неба сквозь ветви – это что-то изумительное по красоте. Для того, чтобы любоваться такой красотой, можно и не ехать в лес, а всего лишь выйти во двор за дровами или пройтись по Гоголя, сетуя, что ты не художник, который, не упустив ни малейшей детали, ни самой тонкой веточки, мог бы запечатлеть дивное зрелище морозного январского утра» (13 января 1964 г.).
Но ещё в ту пору возникла и на дальнейшее не покидало тревожное ощущение: «…где-то в глубине души с сожалением чувствуешь, что этой дивной красоты меня хотят лишить, что есть людишки, которые только об этом и думают и, кто знает, придёт такой проклятый день, когда солнце осветит не тёплое, безмерно богатое старое узорочье, а голые стены бездушных "современных коробок"». А ведь это писалось, когда на старый Екатеринбург, да и то с краёв, напирали только хрущёвки, а в центре начинали появляться единичные стеклянно-бетонные объекты вроде «Рубина» или реконструированного «Совкино» с Музкомедией…
Предчувствия не только не обманули, но далеко превзошли самые кошмарные сны.
Сейчас мой город, превратившейся в мегаполис и претендующий на роль третьей столицы России, совсем иной. Я его большей частью не узнаю. Мало того, многие улицы, и целые кварталы стали для меня табу, я их избегаю. Хорошо ещё, что остался путь на работу по бульвару проспекта Ленина и кое-что ещё. Однако как выглядело то или иное кругом, начиная с родной улицы Максима Горького, постоянно встаёт в сознании, преследует, «как злой властелин». Пора попытаться воссоздать это словами.
Оговорю хотя бы условные хронологические рамки, начиная с точки отсчёта. Более или менее помню себя и окружающее с конца четырёх-пяти лет. Перед глазами и сейчас встаёт салют в честь 35-летия Октября, увиденный с моста на Малышева. В этом же 1952 г. уже научился читать. Детство, считаю, закончилось в 14, вместе с восьмым классом, в чудесный вечер 26 мая 1961 года, почему-то под «Киевский вальс» (или «Снова цветут каштаны», хотя у нас они никогда не росли) прогулкой по набережной с повстречавшемися одноклассниками.
Труднее провести грань между юностью и началом того, что называют зрелостью. Но таковая, наверное, приходится на середину студенчества, примерно 1966 год, когда резко расширился круг общения (как правило состоявший из людей старше меня) и определилась моя историко-архитектурная специализация.
Эта хронология при необходимости «пролонгируется». Однако всё же за «среднее» будет принят 1959 год. Он в моём детстве (сам не знаю почему) представляется самым ярким, и, пожалуй, наиболее счастливым запечатлелся.
Пока воздержусь говорить, кроме некоторых эскизных штрихов, о связанном со школой, жильцами нашего двора - том, что составляло у детей и взрослых неповторимый быт эпохи. Да и политику лишь маленько затрону. Всё это достойно быть предметом специальных очерков, быть может, даже более увлекательных, чем предлагаемое. Главным же сейчас будут тогдашний облик города, городская среда.
Я не намерен сколько-нибудь углубляться в стилистику зданий. Желающие смогут найти искусствоведческий анализ (в том числе и автора этих строк) в таких трудах, как «Екатеринбург: История города в архитектуре» (Екатеринбург, 1998) или «Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Т. 1: Екатеринбург» (Екатеринбург, 2008). Не всегда называю даже владельцев тех или иных объектов, тем паче, что относительно этого существует разнобой.
Зато неоценимым источником в избранном мной аспекте послужило написанное Павлом Петровичем Бажовым, которого у нас доныне столько чтут как сказителя, сколько не дооценивают в качестве историка-краеведа. Воспоминания «Дальнее-близкое», вошедшие в созданный при его же участии интереснейший сборник «Свердловск» (Свердловск, 1946) и вышедшие отдельным изданием в 1949 году, все ещё служат мне путеводителем. Потому их обильно цитирую.
Однако, задолго до прочтения Бажова, в первичном знакомстве с городом немалую роль сыграли и родители – Юрий Николаевич Каптиков (1899-1956) и Надежда Александровна Пагина (1909-1989). Отца - человека сложной судьбы, возносившегося на военные, чекистские, а затем и хозяйственные высоты, но под конец всего лишь мастера артели инвалидов - потерял в девять лет. Тем не менее он успел вложить в меня столько, что создал фундамент, на котором я продолжал расти. Впрочем, если брать аспект краеведческий, несравненно большим обязан матушке, которая была, можно сказать, плоть от плоти фактически ещё дореволюционного Екатеринбурга и в свои лучшие годы работала библиотекарем. Она не только была уроженкой Екатеринбурга, но и большую часть жизни провела на родной и для меня улице Максима Горького, тяжело покинув её лишь в 67-летнем возрасте в связи с нашим переселением в благоустроенную квартиру во Втузгородке. От неё ещё ребёнком услышал многое о виде и жизни города довоенного, нэповского, даже дореволюционного: вплоть до ночных уличных сторожей колотушками, названия многих домов, начиная с рязановских и архитектора Малахова.
Однако по-настоящему углубился в историю и топографию города с лета 1964 года, когда начал усиленно посещать библиотеку областного краеведческого музея с массой старинных изданий. Вскоре уже увлечённо водил по историческим местам местных и приезжих.
Моё восприятие родного города трудно оторвать от рассказа, каким был я сам. Хотя о своих детских увлечениях, например футболом, тоже можно написать особо, всё же по возможности передаю, как всё кругом видел тогда. Другое дело, что неизбежно и постоянно возникают те или иные ассоциации, порой неожиданные (как упомянутый «Киевский вальс»). Для меня выходы в город, да и разъезды по нему, чаще всего связаны с покупками, в первую очередь, приобретением книг. С этим связывается, даже на него «нанизывается», в памяти очень многое.
Обилие точных дат, которое может показаться излишним, идёт ещё от детского пристрастия к хронологии, навеянного отрывными календарями [1]. Попутно отмечу, что ещё в 1954 году пробовал вести дневник [2], а записанное (с некоторыми перерывами) в 1960-1989 годах служит мне подспорьем.
Из того, что крепко засело в памяти, постарался сгруппировать воображаемые маршруты (а, может, ими кто-нибудь воспользуется для реальных экскурсий?). Было время, сам по ним постоянно ходил и ездил. Несмотря на некоторые территориальные расширения каждого что-то, например ЦПКиО или Вайнера – ранее наша главная торговая улица, - в маршруты не вошло. И, наоборот, кое-где неизбежны повторы-возвращения.
Не хотелось бы извиняться за ностальгический тон (думается, понятный) и нелестные отзывы о современном городе. Автор остался человеком «той» эпохи. Правда, вольно или невольно черпаю из теперешнего лексикона.
Изложение проиллюстрировано собственными снимками автора – от первых детских до сделанных специально в преддверии уничтожения большей части Екатеринбурга в 1970-1980-е годы. Привлечены также старые книжные и архивные фотографии. К сожалению, остались не запечатлёнными или не отыскались некоторые описанные в маршрутах места и объекты: перекрёсток улиц Куйбышева и 8 марта (где сейчас цирк), старое трамвайное кольцо во Втузгородке, площадь Субботников и другое. Кроме этого, привлечены работы изображавших город моего детства и юности художников: Б.А. Семёнова, чьи блестящие акварели с изображениями свердловских улиц экспонировались даже на тогдашних всесоюзных художественных выставках; прекрасные линогравюры В.Ф. Новиченко и некоторых другие. К ним добавлены работы Алексея Ефремова, являющегося в наши дни поистине певцом старого Екатеринбурга. Екатеринбург современный, на мой взгляд, лучше всех передаёт Р.И. Баянов.
* Монетка — территория нынешнего Исторического сквера, где с основания Екатеринбурга находились завод и монетный двор.
[1] — Благодаря им я очень рано усвоил даже не столько даты исторических событий, сколько дни рождений и смертей (а тогда отмечались и последние) разных деятелей. В частности, до сих пор в памяти остались относящиеся к нашим партийным вождям: от В. М. Молотова (9 марта) до уже входившего в их круг А. Н. Косыгина (21 февраля). Смутно помню и Л. П. Берию, да и почти всех зарубежных, и, конечно, их лики. Некоторые такие даты прочно связались с моим тогдашним укладом жизни: так, А. А. Жданов, умерший 31 августа, — с началом очередного учебного года, а погибший 11 января второстепенный военачальник Гражданской войны В. И. Киквидзе — с возобновлением занятий после зимних каникул.
[2] — Наверное, я уже был достаточно развитым ребёнком, если, заканчивая тетрадь, резюмировал: «Этот дневник — исторический источник, но он очень краток».
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: