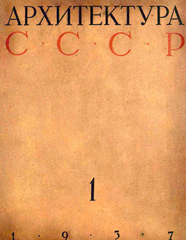Общераспространенное мнение об отсутствии в древней Руси скульптуры следует принимать с некоторыми ограничениями. Конечно, в древней Руси и в Византии круглая скульптура еще не выступала как самостоятельный вид искусства. Ведь и на Западе такая пластика развилась лишь постепенно из рельефа, связанного с зданием. Но рельефная декорация зданий существовала и в древней Руси, хотя, бесспорно, играла значительно меньшую роль, нежели на Западе, и все же большую, чем в Византии.
Скульптурная декорация в Древнерусском каменном зодчестве
- Текст:Алексей Иванович Некрасов18 августа 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Само внимание к массиву стены диктовало прием обработки ее чисто декоративными орнаментальными формами. В атом случае рельеф стены приобретает характер «узорочья».
На почве подобного развития, как раз имевшего место в древней Руси, раскрывается внутренняя народная природа древнерусской декорации, откуда бы ее мотивы пи были заимствованы. Иностранцы, приезжавшие в древнюю Русь, рассказывали, что русские очень любит вся кое узорочье, и даже снабжали русских его образцами.
Особенностью византийской системы кладки в зодчестве домонгольского периода является чередование горизонтальных полос краснобурых кирпичей (плинф) и розовато-серого раствора, полосы которого иной раз были шире кирпичных. Традиция такой декоративной кладки была так велика, что в XII веке в Полоцко-Смоленской земле при побелке здания снаружи расписывали его подобными же полосами под «византийскую» кладку. Курьезное совпадение принципа мы находим и в конце XVII века, когда, случалось, кирпичное здание штукатурили и раскрашивали под кирпич.
Полосатая стена XI века давала, при своей двухцветности, мало простора для ее скульптурной обработки. Но древнейшее русское каменное здание — Черниговский собор (первая половила XI лека) нее же имеет снаружи по своим лопаткам, а также в простенках верхнего тройного окна, тонкие тяги, даже пучки их, заимствованные, как это было доказано, с Востока, от сассанидов, но не чуждые и самой Византии. Известно, что внутренние пилоны этого собора и Софии Киевской имеют такие же тяги, что придает пилонам характер пучка опор, развившегося в романском и готическом зодчестве.
Совершенно естественно, что какие-либо более сложные скульптурные декорации, особенно фигурного содержания, при этой системе византийской стройки оказывались обособленными от здания. Они вносились в него в виде самостоятельных рельефных изображений, в своём роде «плит-картин». Таковы знаменитые киевские шиферные плиты XI века с всадниками, изображающими князей Ярослава и Изяслава, и с фантастическими образами Самсона (или Геракла), колесницы, запряженной львом и львицей, и др. Выступающая вперед каемка бордюра обрамляет изображение, которое было вделано в стену. К сожалению, мы не знаем, на какой высоте, в каком месте, снаружи или внутри здания, устанавливались эти плиты.
Подобного рода рельефы, от архитектурного осмысливания здания часто и вовсе независимые, нередко и позже применялись и древнерусском зодчестве. Летописи говорят о помещении над вратами города изображений Николы. По-видимому, известная деревянная статуя Николы Можайского XIV века первоначально занимала именно это место и была заключена в специальное обрамление, «киот».
В XV веке известный скульптор и архитектор В. Д. Ермолин поставил на воротах московского Кремля две каменных конных статуй Георгия и Дмитрия Солунского, из которых фрагментарно сохранилась одна. Тот же Ермолин на одной из построек Троице-Сергиевской лавры утверждает замечательный рельефный образ богоматери. Скульптура Ермолина носит явно следы западного воздействия и послужила прообразом для ряда родственных ей пластических произведений XV֪–XVI вв. Укажем на изразчатую фигуру Георгии Дмитровского собора XV века и на две монументальных изразчатых композиции распятия, созданные там же в XVI веке (подобные декорации применялись и в Старице). В Коломне стены Кремли, выстроенного итальянцами в первой половине XVI пека, были украшены монументальной каменной скульптурой. До наших дней здесь сохранялось только любопытное, отмеченное чертами западных влияний, изображение «святого семейства».
Все подобные изображения, встречающиеся и в XVII веке, обычно вделывались в киоты и иные обрамления и поэтому отрывались от стены здания. Характерно осевое расположение скульптуры по отношению к фасаду, причем пластические мотивы использовались как средство его централизации. Однако последний сам по себе был мало выражен, что тотчас же сказывается на исключениях из указанного правила. В Новгороде, так называемые, «поклонные» кресты как бы произвольно разбрасываются по стенам церквей, не лишаясь сами и не лишая здания своеобразной монументальной декоративности.
Уже в XVI веке мы находим в русской архитектуре иные формы декорации из камня, которые неразрывно сказаны со зданием и являются его необходимой, органически входящей в зодчество, частью. Сюда относятся известные черниговские фрагменты: капитель «романского» типа и обломок фигурной полуколонны, на котором можно заметить птичье крыло, обвитое стеблем, — мотив столь популярный и древнерусском рукописном орнаменте.
Замечательно, что новгородское зодчество такого орнамента не знает; там мы находим простейший народный орнамент из геометрических впадинок на стене. Подобный орнамент был особенно излюблен в Пскове XV века, где он органически, как фриз, венчающий стену, связан с зданием. Придавать этому фризу сугубо национальный смысл или относить его, как полагали, к финским воздействиям, не приходится, так как он встречается и в других местах Европы, например, в Тоскане (см. церковь Петра в Тосканелли — XII век).
Это — плоскостной узор — своеобразное «узорочье», напоминающее известную «строчку» текстильного производства, — в некоторых случаях сплошным кружевом покрывает даже монументальные стена башен (например, в Кирилло-Белозерском монастыре). Стена при этом не теряет своего тектонического смысла, хотя и явно облегчается (и не только в восприятии, но даже и в прямом строительном смысле).
Замечательно разыграна стена как декоративная композиция в суздальско-владимирских храмах XII–XIII вв. и особенно в Дмитровском соборе, конца XII пека.
Ученые много потрудились для того, чтобы вскрыть западные, восточные и византийские компоненты той скульптуры, которая покрывает прясла стены симметрично расположенными вокруг оконного проема фантастическими фигурами людей, зверей и растений. Несомненно, что эта пластика, которая по справедливости названа «романской», во многом подсказана Византией и Востоком (собор Юрьева Польского — первая половина XIII века). Последнее влияние позже становятся доминирующим.
Однако по принципам композиции и в количественном отношении к занимаемой стеной площади подобные декорации вполне самостоятельны и нигде не повторяются. В смысле принципиального понимания этой декорации важно отметить не отрицание, а пластическое подчеркивание стены, которая становится реальным средством выражения какого-то образного, чувственного мира. В Дмитровском соборе это — мир народной легенды, в Юрьевском — более канонические мотивы. В смысле же принципов соединения с зодчеством крайне характерно, что в первом случае этот мир отрешен от динамики стены, разлагающейся на активные и пассивные члены, во втором — связан со всей стеной, более единой в своей структуре. При этом стена в своей нижней части покрывается как бы сплошным ковром очень плоского условного растительного (собственно, арабескового) орнамента. Тектоническая взаимосвязь стены с декоративным ее оформлением наиболее любопытно решена и Суздальском соборе — первой половины XIII века, где на углу помещается фигура барса, от одной головы которого расходится по стенам дна туловища.
Источники и фрагменты указывают, что декорации стен, повторяющие принципы суздальско-владимирского зодчества, более скромно воспроизводились в центральной Руси вообще, и Галицко-Волынской области, но не в Новгородско-Псковской.
Московское зодчество открывается системой белокаменной рези в виде фризов. Это — пояса узоров, напоминающих плоскую резьбу по деревянной доске, однако по своим мотивам идущих от приемов каменного строительства, занесенного в Москву XIV–XV вв. южными славянами. Таковы пояса звенигородских, троицкого, александровского храмов.
В волоколамском и кирилло-белозерском соборах конца XV века, малых храмах московского Кремля XV–XVI вв., в Троице-Сергиевской лавре и других памятниках сюда присоединяются ряды мелких балясинок, для поделки которых стали с течением времени прибегать к керамике. Особо интересны фризы угличского дворца. Зодчие здесь вновь обращаются к арабеске, заимствуя ее от татар (эти фризы — почти сплошь реставрация XIX века, но по фрагментам XV века).
Существенным в этих фризах является то, что, даже когда они стремятся подчеркнуть схему расчленения стены, они не придают ей сложной тектоники. Вся изобретательность Алевиза Нового в деле введения на Руси чисто тектонического понимании стенной декорации не привела ни к чему. Этот принцип не был понят и позже даже в таких памятниках, как Дьяковская церковь или собор Василия Блаженного. Поразительная игра геометрического скульптурного орнамента в названных памятниках лишь подчеркивает парадоксальный характер их трактовки как «геометризированной скульптуры». Существо дела заключается не только в том, что здесь геометрическая скульптурная декорация получает почти графическое выражение (в данных памятниках согласованное с вертикальной динамикой). Декоративные формы, заимствованные из западноевропейского репертуара, не повторяют западноевропейских принципов вследствие того, что они структурно равнозначны; вес вертикали, наклонные и горизонтали, не лишая здание тектоники, наоборот, подтверждая ее, образуют собой, так сказать, «штучный набор», связанный между собой чисто орнаментальным ритмом. Можно сказать, что тектоника и орнаментика в Дьяковской церкви и в соборе Василия Блаженного находятся в некоем «классическом» равновесии. Сами здании ведь также представляют в своем роде «штучный набор».
Это равновесие нарушается в XVII веке, в «штучный набор» различных ширинок, обломов, тяг, наличников, кокошников и явившихся с Запада колонн уже теряет единство выражения. В это время особенно сильно дает себя знать влияние деревянной резьбы. Рядом с иноземными мотивами чаще встречаются народные или, во крайней мере, иноземные, получившие народную обработку. Наряду с камнем и кирпичом в XVII в. в изобилии употребляется орнаментированный изразец.
Несмотря на обилие выпуклых форм, плоскостная их трансформация является ведущим принципом; даже колонны (или «валы») располагаются по-двое радом, чтобы не акцентировать объема. Плоскостность декоративной формы заметив даже в тех случаях, когда вводится «округлое» тело, например, «чудищ» Спасской башни и теремов московского Кремли первой половины XVII века. Дробность форм подсказана боязнью пустоты; орнаментика приобретает самодовлеющий характер — так, маленькие окна получают неизмеримо большие наличники.
Была попытка видеть в этих особенностях декорации русский вариант стиля барокко. Конечно, все принципы этого стиля противоречат московскому зодчеству XVII века, декорация которого лишь к концу этого века приходит в согласие с архитектурным организмом, но и он принципов барокко не приобрел.
Наоборот, принцип «узорочья», свойственный древнерусской декорации, овладел самим зодчеством, что мы видим в «нарышкинском» стиле в отличие от указанного выше равновесия между тектоникой и орнаментикой в памятниках середины XV века.
На обложке: Дмитровский собор во Владимире. Арочный пояс главной апсиды
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: