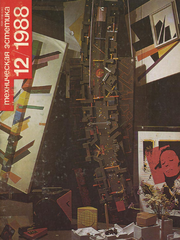Статья впервые опубликована в 1988 году в журнале «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА». В статье сохранены тональность, пунктуация и орфография на момент её первой публикации.
Связи пространства и цвета многообразны и многочисленны.
Более того, цветовая маркировка пространственных направлений была одним из
первых актов упорядочения мира, превращения его из Хаоса в Космос. Еще на
доисторических стадиях развития культуры цветом обозначались глазные
направления пространства: стороны горизонта, центр, зенит (небо), подземелье
(преисподняя). Правая и левая стороны человека или вещи были неравноценны и
также обозначались в ритуалах разными красками. Такое понимание пространства
можно условно назвать «географическим» или «топологическим».

У первобытных и древних народов небо (верх) обозначалось
светлым, земля (низ) — темным. У китайцев небо синее, земля желтая. Стороны
горизонта получили каждая свою окраску. Например, у североамериканских индейцев
чоктавов: север — белый, юг — красный, у чироки: духи востока — красные, запада
— черные, юга — белые, севера — синие. У народов, поклоняющихся богам или
духам, ориентация по странам света имеет не только практическое, но и мистико-ритуальное
значение — в каждой стороне помещается то добрый, то злой дух, то бог, то его
антипод, с каждой стороны можно ждать блага или несчастья.
В культурах с монотеистической религией из всех направлений
пространства сакральное значение сохраняется преимущественно за двумя: верх-низ
и восток-запад. Купол храма и снаружи, и внутри всегда светлый, сияющий, ибо
там обитает пастырь, а низ, где размещается «мир», люди, — значительно темнее.
Горные выси отмечены несказанной белизной, а царство антипода—непроглядной
чернотой. Восточная часть христианского храма встречала первые лучи солнца и
была самой светлой; у мусульман божество тоже помещалось на востоке. Цветовая
«маркировка» направлений астрономического пространства связывала макрокосм, где
обитал человек, с остальным миром, встраивала каждую индейскую деревушку или
арабское поселение в общий большой мир, который благодаря этому казался более
понятным и освоенным.
В храмах Древней Греции классического периода, как
утверждают археологи, цветом подчеркивались вертикальные и горизонтальные
элементы. Красным окрашивались архитравы, плинты капителей, горизонтальные тяги
карнизов; синим — вертикальные плиты метоп, тимпаны фронтонов. Стремление
выявить и подчеркнуть две взаимно перпендикулярные пространственные координаты
вполне в духе античного рационализма — здесь в полной мере проявился ясный
эллинский разум, любовь к порядку и гармонии.
В 20-е годы нашего века новые живописцы и архитекторы,
подобно древним зодчим, размечают цветом направления пространства. Вертикаль и
горизонталь Мондриана, так же как стойка и балка греков, визуализируют силы
вселенной, приведенной к порядку и равновесию, а три его хроматические краски —
символы трех направлений пространства. Такую же систему представляет собой
«пластическая архитектура» Тео ван Дусбурга, где прямоугольные плоскости, по
его словам, «образуют координированную систему, все точки которой соответствуют
равному числу точек во Вселенной». Пионеры новой архитектуры не мыслили ее без
цвета, возлагали на цвет концептуальную задачу: выразить взаимосвязи
архитектуры с пространством и временем. «Без цвета эти взаимосвязи нереальны,
они невидимы», — пишет Тео ван Дусбург. К этому нужно прибавить, что и
Корбюзье, и Леже, и архитекторы группы «Стиль» вводили в свои композиции только
чистый цвет. Он наилучшим образом соответствовал чистой геометрической форме
новой архитектуры и своей скорее знаковой, чем живописной, функции. В самом
деле: если цвет обозначает «чистую» идею, то его конкретный оттенок не имеет
значения и нет смысла добиваться получения каких-то нюансов этого цвета. У
Мондриана три основных цвета «кодируют» основные направления пространства:
желтый соответствует вертикали, синий — горизонтали, красный уравновешивает
противопоставление вертикальных и горизонтальных линий.
Однако сравнение пространственно-цветовых интенций у греков
и у мастеров XX века
обнаруживает между ними существенную разницу, чему, впрочем, не приходится
удивляться. Для греков некоторые пространственные направления были священными
(снизу вверх, на восток), другие же отличались какими-то другими смыслами
(например, направление вниз означало путь в Тартар, на запад — в страну теней).
В XX же веке в системе
«новой архитектуры» и живописи неопластизма все направления равноценны и все
цвета равновесны. В картинах Мондриана нет верха-низа, правого-левого, а
«пластическая архитектура» сконструирована как бы в открытом космосе, в
условиях невесомости. Здесь, как и в живописи оп-арта, движение есть, но оно
бесцельно, не имеет ни начала, ни конца. Все направления пространства
обозначены и указаны, но не вызывают желания двигаться, так как в итоге
равнозначны.
В культуре больших городов уже не заметно стремления
вписаться в астрономическое пространство, отметить и прочувствовать его
координаты. Сплошь и рядом естественное расположение цветов извращается: в
зданиях можно увидеть черные потолки и белые полы, в костюме — темный верх и
светлый низ. А ведь в произведениях природы цветовая «маркировка» пространства
достаточно жесткая. Особенно заметно это на предметах, привязанных к месту —растениях,
камнях, горах. Обычно то, что «смотрит» вверх, имеет более насыщенную окраску,
то, что обращено вниз, — бледнее (листья деревьев, лепестки цветов, спина и
брюшко животных). У облаков и гор светлее вершины. Северные части стволов
деревьев и камней покрыты мхами, лишайниками — они зеленоватые; южные склоны
лесистых гор обильнее зарастают деревьями. В одежде разных народов цвет всегда
указывал пространственное положение частей костюма. У китайцев кофта
символизировала небо, плахта — землю; они имели присущую этим частям космоса
окраску. В славянском народном костюме рубашка всегда светлее нижней части
одежды.
Что ж, в искусственной среде все естественное забывается. Но
известно, что отрыв от природы плохо сказывается на психике человека. Искусство
пытается по-своему восстановить контакты человека с природой. Неожиданные
подходы к этой проблеме видим в нынешнем концептуальном искусстве западных
стран и Америки. Оно заставляет человека задуматься о мире в целом, а не об
отдельных его частях, о Земле как планете, а не как о содержимом цветочного
горшка.
Пространство, куда стремится проникнуть человек, не
ограничивается земным и околоземным. Задолго до научных исследований космоса
людям было свойственно космическое миро-чувствие. Древние китайские поэты
охотно летали вместе с «ветром и потоком», посещали небожителей в немыслимых
далях Вселенной. Философы средневековой и ренессансной Европы также ощущают мир
как универсум, единое целое, в которое органически входит человек-микрокосм.
Направления и области этого космического пространства также обозначаются
цветом. «Вершина мира» — это место, где обитает божество. Здесь царит свет без
теней и вечный день без ночи. Это царство белого. Средняя зона мирового
пространства — земля с ее мирской жизнью, многокрасочной, переменчивой и
суетливой. И, наконец, нижняя зона — темное царство антипода, тления и зла.
Здесь господствует черный цвет.
Эта космическая схема распределения красок была принята в
Новое время учеными (и художниками) как вполне логичная и образная. Цветовые
системы Рунге, Оствальда, Клее и многих других ученых строятся именно так;
между полюсами белого и черного располагаются хроматические цвета. Может быть,
их промежуточное положение подсказало древним философам мысль о происхождении
хроматических цветов. У Платона первичные цветовые ощущения — это белый («то,
что расширяет зрительный луч»), черный («то, что его сужает») и красный («такой
род огня, который стоит посредине между двумя вышеназванными...»). Остальные
цвета образуются смещением этих первичных. У Аристотеля остаются только два
исходных факторе, которые и образуют весь хроматический ряд: свет и тьма. Между
ними располагается ряд степеней затемнения света, или «замутнения прозрачной
среды», то есть хроматические цвета.
Фото-альбом: Выставка детского рисунка в городе Горки. 2017 г.
После работ Ньютона взгляды на происхождение цветов
изменились, но античная теория смешения света и тьмы все еще находит
сторонников и защитников среди мыслителей идеалистического склада: Гете,
Шеллинг, Гегель, Р. Штейнер, А. Белый, П. Флоренский. Впрочем, и с позиций
материалистической науки эта идея не так уж абсурдна; хроматический цвет можно
получить не только путем пропускания белого света через призму, но и путем
вычитания из белого потока определенной его части (субтрактивный процесс). А
ведь субтракция — это и есть затемнение света, или, образно говоря, смешение
его с темнотой. В древних мифах и эпической поэзии повсеместно встречаем ту же
мысль о промежуточности хроматического цвета между полюсами белого и черного. У
африканского народа ндембу, например, красный содержит начала как добра, так и
зла.
Такое же положение приписывается красному цвету в
мусульманской культуре. Ш. М. Шукуров пересказывает шиитский хадис о «райском
шатре», спущенном на землю богом по просьбе Адама. Центральный столб этого
шатра сделан из красного гиацинта, он связывает верх и низ, небо и землю, свет
и тьму. По словам Ш. М. Шукурова, «красный цвет столба является следствием
смешения белизны как аспекта мира света и черноты — аспекта мира теней».
Пространственно-понятийная символика первичной триады
(белый, красный, черный) сохраняется в культуре Европы на протяжении всего
средневековья и переходит в Новое время. Исландские саги, рыцарский эпос,
светская новелла, живопись — везде обильно рассыпаны свидетельства особой роли
этих цветов в культуре. С предельной ясностью и могучей силой дан образ
единения пространства и цвета великим Данте. Здесь белое, красное и черное
определяют колорит всей грандиозной постройки потустороннего мира: в Рае
господствует белый и алый (цвет божественного огня, любви); в Аду — черный и
красный (цвет крови и адского пламени).
Понятие пространства не исчерпывается смыслом
«протяженность», «место» или «направление». Пространство — это также антиномия
понятия «масса», «материя». Мир состоит из пустых и заполненных мест (что
заметил еще Демокрит). Антитеза («пространство — масса» с древности и по сей
день была и остается символом антитезы «духовное — материальное». Преобладание
в искусстве духовного начала оказывается в преимущественной роли пространства и
света; материальное выявляется через вещи (массу) и цвет. Вспомним даосскую и
дзэнскую живопись тушью по белому фону, белые лотосы Будды, болью одежды
обитателей Дантова рая, чистое сияние Брахмана, Аллаха...
В экстатической и одухотворенной архитектуре европейского
средневековья на первом месте всегда пространство и свет. И хотя готические
витражи состоят из цветных стекол — они посылают в пространство храма свет, то
есть «нематериальный» поток энергии; цвет витражей преобразуется в свет.
Византийское искусство отработало целую систему приемов,
вводящих «нездешний», сакральный свет в пространство храма: обилие золотой
смальты в росписях и иконах, золото риз и церковной утвари, мерцание света не
неровно положенной мозаике, фокусирование реального света на поверхности
куполов, блики и «движки» на иконописных фигурах, светоносность полупрозрачных
темперных красок.
И естественный, и искусственный свет в храме — божественная
субстанция, говорящая душе человека о другом свете — «нетварном» и незримом.
Средневековая культура любит и ценит цвет, но только такой, который несет на
себе отблеск чистого света, который напоминает о бессмертии духа, а не о
тленности материи. В этом основа цветовой эстетики средневековья. Очень точно
резюмировала эту мысль М. Жепиньска: в средневековом мире «должен был неизменно
царить блеск, сияние золота и чистых цветов, свободных от тени материи». В этой
культуре цвет — лишь носитель света.
Даже в предметах христианского культа, несмотря на их
вещественность, преобладает не масса, а пространство вместе со светом. Такие
предметы, как кубки для церковного вина, чаши для святой воды,
дарохранительницы, курильницы и пр., — это вместилища, ценимые именно благодаря
пустоте внутри них. Лампады, свечи — источники света; покровы, скатерти,
облачения священников — символы «неба» или «воздухов». К тому же все эти
предметы культа более или менее обильно (посредством заказчика) орнаментированы,
покрыты надписями, украшены цветными камнями, вышивкой и т. д. Все эго
дематериализует их, заставляет забыть про физическую материальную основу.
Поэтому вещи не противопоставляются пространству храма, но органично
«растворяются» в нем. Да и стенная живопись дематериализует самые толстые
стены, лишает веса массивные столбы.
В искусстве Древнего Востока, напротив, полихромная живопись
не знает проблемы пространства и света. Египетские, месопотамские, критские
росписи стен не изображают света и не излучают его. Яркое и жгучее солнце этих
мест, «светоносная» религия, видимо, вполне удовлетворяли потребности древних
людей в свете — и физическом, и духовном. Их живопись взяла на себя заботу о
цвете — точнее было бы назвать ее не живописью, а раскрашенным рисунком. Здесь
цвет, свободный от службы форме, пространству и свету, являет все свои
имманентные свойства: содержательность, выразительность, декоративность. В
античном искусстве архаического и классического периодов цвет принадлежит вещи,
он не скрывает своей материальной сущности. В статуях богов, например, полихромность
достигается за счет разноцветных материалов: слоновой кости, золота, мрамора.
Краски на керамике всегда материальны и фактурны; в скульптуре цветом обычно
выделяются одежда, волосы, глаза, различные предметы («Богиня с гранатом»,
«Человек с ягненком»). Этим приемом подчеркивается материальность статуи, цвет
как бы «оживляет» ее и сам производит впечатление «настоящего» материала.
Как видим, история искусства подобна большой комедии (или
трагедии), где драматург попеременно выводит на сцену то Пространство и Свет,
то Форму и Цвет. Иногда эти пары размещаются на сцене жизни одновременно, но в
разных ее частях. Бывают моменты, когда они танцуют «общий котильон» и при этом
меняются партнерами, но скоро все возвращается к установленному порядку.
Пространство и свет обычно играют главные роли в культуре иррационально-мистического
характера. Форма и цвет выступают вперед там, где высоко чтут разум, логику,
науки (естественные и прикладные), где не любят хаоса и предпочитают ему
космос, порядок и гармонию. Второй тип культуры хорошо выражен в античности,
Возрождении, классицизме, реализме Нового времени. Первый тип обозначается в
европейском средневековье, барокко, романтизме XIX века.
Шло время, сменялись формации, рождались и умирали
государства. На сцене искусства герои приходили и уходили в свой черед. Но вот
наступил XX век, и «актеры» как будто взбунтовались. Пространство дерзко
заявило претензию на первенство. Все вдруг заговорили о нем, устремились к
нему, стали его исследовать, изображать и толковать на разные лады. Верный
спутник Свет следовал за ним во всех его приключениях.
Люди XX века ощущают пространство по-новому, ведь они
взлетели высоко над землей, научились «пожирать» огромные пространства на
автомобилях и поездах, наука открыла новые измерения и свойства пространства:
криволинейность, дискретность, бесконечно-мерность и пр. Отсюда и новое чувство
пространства, о котором говорят Матисс и Малевич, Петров-Водкин и Северини,
Бруно Таут и Леже.
«Каждая эпоха неизбежно приносит с собой свое понимание
света, свое особое ощущение пространства», — говорит Матисс. В начале XX века
живопись устремилась на поиски способов выражения нового пространственного
чувства. В области цвета она их нашла, в сущности, там же, где средневековье и
барокко, — в сиянии света и белизне, или о чистом «излучающем» цвете. В
живописи супрематизма, неопластицизма, орфизма, в «конкретном» и абстрактном
искусстве в полные права входят белый фон или белые фигуры, или то и другое
вместе. Эль Лисицкий пишет в статье «Искусство и пангеометрия»: «Он
(супрематизм) разбил голубой абажур неба. В качестве цвета пространства он
выбрал не только голубые лучи спектра, но все единство спектра — белый».
Картина Малевича «Черный квадрат», этот пластический
манифест супрематизма, может быть истолкована как изображение пространства «в
чистом виде»: белый фон возбуждает ощущение «позитивного» космического
пространства, из которого выплывают звезды и планеты, и сам квадрат — это как
бы «черная дыра» или негативное пространство, втягивающее в себя небесные тела
и все материальное. Л. Жадова пишет об этой картине: «Черный квадрат — это
визуальная формулу пространства,... окно в бездонную темноту». По мере того,
как созревал и оформлялся супрематизм Малевича, художник все более ограничивал
свою палитру и, наконец, в 1918 году написал «Белый квадрат на белом фоне».
Здесь пространственное чувство достигает предела, выражено оно предельной
белизной и светоносностью, предельным устранением материального начала. Этот
белый квадрат напоминает ангелов в Дантовом раю, едва-едва видных, тающих в
белом сиянии призраков.
Устранение из живописи реальных предметов логически должно
было привести к полному и безраздельному господству цвета. Это действительно
произошло в «искусстве света», оп-арте.
Оп-арт полностью отказывается от изображения вещей. Его
реалии — пространство, свет и цвет, причем цвет — светоносный. Оп-арт как будто
ищет в «темном тоннеле» жизни источник света, путеводную звезду. Среди разлагающегося
мира, изображаемого сюрреалистами, оп-арт создает островки нетленной чистоты,
на которых мог бы отдохнуть глаз. Органическим формам сюрреалистов оп-арт
противопоставляет строгие грани математических фигур или дуги окружностей;
материальным и фактурным краскам сюрреалистов (и поп-артистов)—
дематериализованный цвет, излучающий свет. От начала века и до наших дней
оп-арт пережил довольно длительную историю, и каждый ее период в какой-то мере
отражал состояние и дух своего времени. И хотя ряды оп-артистов более сплочены,
чем группы художников других направлений, — все же у каждого есть свой
индивидуальный стиль. В оп-артическом театре на авансцене всегда два «героя» —
пространство и свет, но два других — форма и цвет — занимают разные позиции, в
зависимости от содержания живописи.
В каждом произведении искусства так или иначе заложены
категории пространства, света, формы и цвета. Этот «квартет» может звучать
по-разному, но, как и всякая музыка, он подчиняется определенным законам.
Данная статья — плод размышлений над этими законами.
На обложке: Суперграфика в архитектуре и городском дизайне (г. Дефанс,
Франция). При помощи цвета создается иллюзия островерхих крыш