Классическим примером системного дизайна являются средства связи. В эпоху научно-технической революции к традиционной почте добавились телеграф, телефон, радио, телевидение, телефакс, создавшие развитые системы коммуникаций. Их роль в обществе можно сравнить с ролью нервной системы в живом организме: от их разветвленности, от быстроты и четкости реагирования зависит жизнеспособность как отдельного организма, так и общества в целом.
Почта, радио, телевидение: системный дизайн 20–30-х годов
- Текст:В. Р. Аронов6 мая 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
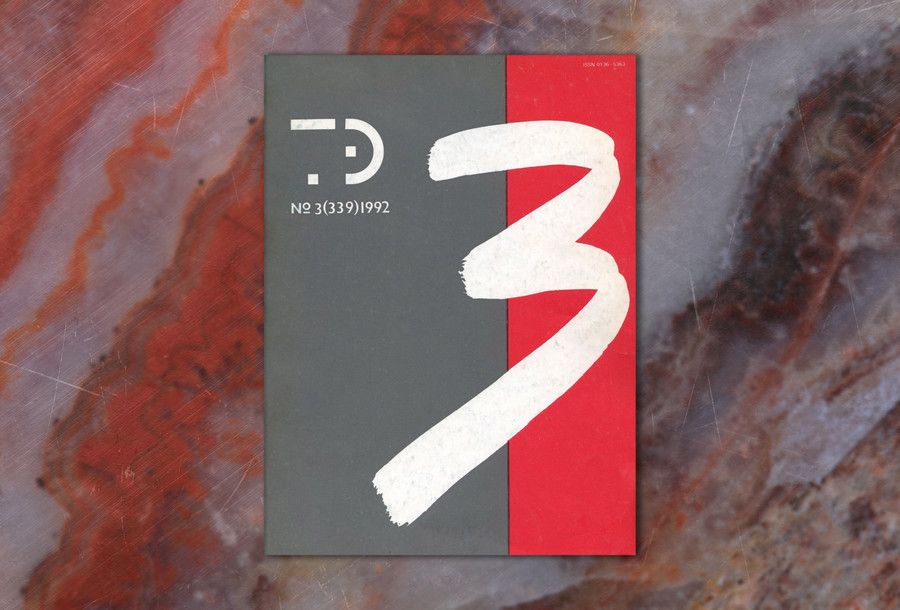
Средства связи могут быть лучше или хуже, удобнее или неудобнее в пользовании, но их основная особенность заключается в том, что должна действовать вся система. Если в этой системе что-то прерывается, если отправляющая, передающая и принимающая стороны не понимают или игнорируют друг друга, связь не работает вообще. Развитие технической основы средств связи взаимозависимо по всему миру. Технические изобретения и новинки распространяются очень быстро, хотя линии связи могут быть смешанными. Например, отправленная с самого современного центра связи телеграмма может быть доставлена адресату на собачьей упряжке или письмоносцем по горной тропе. И в то же время спутниковая связь конца нашего века позволяет связать на одном техническом уровне все точки земного шара.
Но вернемся в 20–30-е годы, когда смешанный тип в линиях связи был широко распространенным. Каков был дизайн средств связи, что обеспечивало целостность всей системы? Это особенно интересно проследить в периоды резких, революционных изменений как в технике, так и в обществе, когда на средства связи приходились максимальные нагрузки. Будучи системным, дизайн активно отражал социальный климат эпохи и определенным образом воздействовал на него.
Чтобы почувствовать остроту этой взаимозависимости средств связи и общества, достаточно бросить самый первый, беглый взгляд на старые конверты и бланки — на графический дизайн; на старые телеграфные и телефонные аппараты, почтовые ящики, радиоприемники и телевизоры, появившиеся в серийной эксплуатации в середине 30-х годов (в том числе в Ленинграде и Москве) — то есть на индустриальный дизайн; на фотографии, где видны фасады и интерьеры крупных почтамтов, радиодомов и самых маленьких почтовых отделений, соседствующих с сельпо и зданиями местных властей — на интерьерный дизайн. И мы увидим, насколько дизайн и жизнь неразделимы.
В системном дизайне средств связи проявляется и еще один, совершенно уникальный аспект — соотнесенность самого крупного и самого мелкого масштабов (всей системы и отдельного абонента, общества в целом и отдельной личности), максимальной политизированности средств связи и способности их быть вне политики, входить в частный быт, соответствовать всемирно признанным правилам, международным стандартам и отражать национальные обычаи и культурные особенности страны, региона, быть выключенными из обыденного потока жизни и оставаться доступными миллионам людей.
Рассмотрим, как это проявлялось конкретно.
Почта в годы революции
Революционные события 1917 года сразу же отразились на почтово-телеграфной службе. Были убраны все символы старой власти. Появились бесчисленные официальные распоряжения о реформе почты. Но знаки почтовой оплаты долго оставались еще прежними.
Отречение Николая II произошло в феврале и лишь спустя четыре месяца Министерство почт и телеграфов Временного правительства решило выпустить новые марки. В августе специально созданное жюри, в котором среди чиновников разных уровней был и известный художник А. Бенуа, выбрало из эскизов И. Билибина, Г. Нарбута, С. Чехонина и других графиков пять образцов марок. На них были изображены русский витязь со щитом, с мечом, орел, рука с мечом, разрубающая цепь рабства, и ангел, вдохновляющий на ратные подвиги.
Эти образцы графического дизайна 1917 года широко известны у филателистов. Много написано об их переходности в знаковой, образной, стилевой системе: изображения витязей и виньетки связаны с эстетикой русского «модерна» начала века, меч разрубает цепь, но еще не разрубил ее и т.д.
Первые советские марки появились только в августе 1921 года. До этого пользовались старыми знаками почтовой оплаты, а с 1 января 1919 года по 15 августа 1921 года простые письма пересылались по почте вообще бесплатно (денежное обращение в стране было настолько дезорганизовано, что было непонятно, сколько стоят письма).
Введение советской символики в почтовом деле значительно опаздывало по сравнению с эмблемами на знаменах, знаками различия в армии, политипажами на государственных бумагах, новыми гербовыми печатями (они в целом сформировались уже к августу 1918 года). Так, приказом московской народной милиции от 17 августа 1918 года обязывалось снять и уничтожить в домах, занятых комиссариатами и новой администрацией все дореволюционные гербы, короны, портреты. Герб Москвы — возрожденный вновь в 1991 году — украшавший здание городской думы был заменен барельефом скульптора Г. Алексеева, а над входом в здание он же вылепил доску с текстом «Революция — вихрь, сметающий всех, ему сопротивляющихся».
В первую годовщину Октябрьской революции газета «Известия ВЦИК» сообщала: «Шестого ноября после митинга на одиннадцати московских площадях состоится сожжение эмблем старого строя и грандиозная иллюминация Москвы... В 9 часов 30 минут будут подняты эмблемы, олицетворяющие собой новый строй».
Но почта чисто внешне держалась как бы вне политики — она активно использовалась в политических, государственных и военных целях. Первые же революционные действия были направлены на захват всех средств связи и замену прежних руководителей новыми, которые тоже менялись довольно быстро. Был основан Наркомпочтель (Народный комиссариат почт и телеграфа), рассылавший по всей стране указы и постановления для своих работников, один другого грознее. Например, 7 июля 1918 года тогдашний нарком В. Подбельский в телеграмме окружным комиссарам приказывал: «В дни Октябрьского переворота и последующего периода закрепления завоеваний октябрьской революции значительная часть почтельработников не шла вместе с рабочими и крестьянами... Исходя из соображений государственной безопасности Рабоче-Крестьянское Правительство не может оставлять в руках слуг контрреволюции столь важный государственный нерв как почта и телеграф. Комиссариат предлагает немедленно и неукоснительно проводить в жизнь сокращение штата служащих за счет реакционных элементов, не считаясь с их служебным положением и степенью их необходимости ведомству».
Такие увольнения сопровождались поражением в гражданских правах, высылкой, арестами, расстрелами. На место уволенных принимали мало-обученных людей. Их работа направлялась многочисленными циркулярами, разъяснениями и дополнениями. Надо было научить работать по ходу дела, к тому же система связи все время менялась. Переименовывали бывшие губернии и города, улицы и организации, да и по нескольку раз за короткое время. Чтобы сообщение дошло до места, требовалось сверяться с последними циркулярами почтово-телеграфных ведомств.
Кроме того, война и революция, земельный и жилищный переделы подняли со своих мест и перемешали миллионы людей. Почта и телеграф были ненадежными, но подчас единственными нитями связи. Причем одни давали о себе знать открыто, искали прямых контактов, другие скрывались и пробовали наладить скрытую, косвенную связь. В сентябре 1918 года декретом о правах граждан в РСФСР было разрешено менять фамилии и прозвища, отказываться от родства с «бывшими эксплуататорами», что еще больше осложняло работу почты и телеграфа. Ведь кроме частных писем шли официальные уведомления, денежные переводы, вещевые и продуктовые посылки.
В местных почтовых отделениях разрешалось сообщать свои прежние подлинные данные (они не разглашались) и новые фамилии и имена, а также псевдонимы. В «Почтово-телеграфных справочниках» указывались примеры псевдонимов для выдачи корреспонденции «до востребования»: «М. Н.», «Якорь», «101», «Предъявителю рубля № 0131204» и др. Кроме того регламентировалось вручение корреспонденции заочно или неграмотным: «Получила для передачи мужу, подпись. Свидетель, подпись», «Получил неграмотный Колосков, а за него по его просьбе расписался Токов. Удостоверяю, уполномоченный селения, подпись»4.
Чтобы почта могла ориентироваться в лавине революционных словообразований, меняющихся символов и кодов им рассылали образцы бланков, печатей, предупреждения о появившихся подделках и вообще вымышленных организациях и даже наркоматах. В архивах, так или иначе связанных с историей почтового дела тех лет, сохранились эти уникальные образцы раннего советского графического дизайна, которые еще ждут опубликования.
Для бесперебойной работы почты отправители и получатели должны были ей доверять. Внутри системы продолжала существовать и даже совершенствоваться строгая отчетность (принял, записал, отправил и т.д.), соотнесенная с мировыми почтовыми стандартами. Ведь страна продолжала связи с внешним миром (включая частные международные письма и посылки). Поэтому строго кодировались форма, описи, характер пересылаемых бумаг и вещей. Неоднократно подчеркивалось, что на конвертах не может быть никаких дополнительных надписей и изображений кроме утвержденных Наркомпочтелем, а позднее — Агентством «Связь». В бандеролях разрешалось пересылать деловые бумаги, печатную продукцию, рекламные образчики товаров (обрывки, обломки и отрезки тканей и вещей), а также цветы, живых пчел и племенные яйца (если они специально упакованы)5.
Как уже говорилось, в августе 1921 года были вновь введены почтовые марки и из убыточной сферы почта постепенно стала прибыльной. Через год в залах Московского Почтамта был проведен первый в России «День Филателии», во время которого были показаны все утвержденные и неутвержденные эскизы и образцы русских и украинских почтовых марок и «цельных вещей» (конверты с наклеенными и погашенными на них марками). Среди эскизов было и свыше 300 проектов, представленных на конкурс юбилейной марки к 5-летней годовщине Октябрьской Революции. Графический дизайн в этой области всегда оставался видом искусства.
В журнале «Советский филателист» за 1922 год, сразу же после появления первых советских марок, подробно анализировались все символические, семантические, стилистические особенности их графики. Так, Б. Раевский о самых ранних пяти марках 1921 года писал: «Характерно отметить, что в изображениях этих марок отразился романтизм и неопределенная еще установленность Советской власти того времени, присущие переходным периодам. Так, в качестве официального советского государственного герба (серп и молот) фигурируют эмблемы крестьянина (коса, плуг и связка снопов), рабочего (молот и наковальня); кроме синей марки в 20 рублей довольно еще расплывчатое стремление рабочего к неопределенному свету и свободе в олицетворении восходящего солнца и утренней зари его жизни».
Лучшей маркой первого советского выпуска многие исследователи считают достоинством в 40 рублей с изображением рабочего, побеждающего гидру (гравюра на стали П. Ксидиаса).
Уже упоминавшийся конкурс Наркомпочтеля 1922 года собрал около ста художников. Они представляли все направления в тогдашнем советском искусстве. Все проекты отличались как по замыслу, так и по исполнению. В жюри входили представители Наркомпочтеля, художники, рекомендованные Наркомпросом (К. Юон и А. Экстер) и Гознаком. Первая премия была присуждена художнику И. Дубасову, в характеристике которого подчеркивалось, что он сын табельщика и демобилизованный по болезни красноармеец-доброволец. Он изобразил рабочего, высекающего на доске надпись «1917–1922 РСФСР», добившись очень лаконичными средствами выразительного композиционного решения.
Во время работы ВСХВ 1923 года в Москве филателисты показали исчерпывающие коллекции (в квартблоках, то есть по четыре марки в блоке) всех марок РСФСР, во всех оттенках печатных изданий, картограммы марочных оборотов. К самой выставке были выпущены серии из четырех различных марок с изображением жнеца (желто-коричневая, 1 руб.), сеятеля (зеленая, 2 руб.), трактора (сине-голубая, 5 руб.) и вида ВСХВ (красная, 7 руб.), демонстрировавших очень высокий графический уровень этого вида промышленного искусства.
Наиболее известной в середине 20-х годов была траурная марка памяти Ленина, выполненная по рисункам И. Дубасова, ставшего впоследствии самым крупным советским дизайнером-графиком, проектировавшим на Гознаке казначейские и банковские билеты. Он создал серию марок достоинством в 3, 6, 12 и 20 коп. золотом, в соответствии с тарифами внутренней и международной корреспонденции. Все марки были напечатаны на простой бумаге, без зубцов, литографическим способом и имели один и тот же рисунок и цвета: портрет Ленина был заключен в широкую черную раму, окаймленную тонкой красной полосой, внизу каждой марки были слова «Почта С.С.С.Р.» и достоинства в золотых копейках. Как подчеркивали филателисты, «главное достоинство этих марок было в том, что они появились в обращении на другой день после похорон тов. Ленина и быстро разнесли эту печальную весть по всему миру».
Другими классическими с точки зрения графического дизайна и максимально распространенными марками были серии, выпускавшиеся с конца 1922 по 1927 год, с изображением красноармейца, рабочего и крестьянина, гравированные по скульптурным бюстам, заказанным Гознаком И. Шадру (они воспроизводились также на деньгах, облигациях займов).
В декабре 1924 года в залах Исторического музея в Москве была открыта I Всесоюзная филателистическая выставка, показавшая всю пестроту только что прожитой сумбурной и трагической жизни в марках, открытках, конвертах, бумажных деньгах.
Деньги, которые тоже попадали на почту (при оплате корреспонденции и для перевода адресатам), печатали во многих местах: центральные власти и местные Советы, главнокомандующие войсками и атаманы кочевых отрядов, даже винно-гастрономические магазины. Их изготавливали на гербовой бумаге с водяными знаками и на шелку (хивинские), на картоне и серой бумаге (бухарские), украшали четкими рисунками и шрифтами, зеленью венков, затейливой восточной вязью, изображениями зданий и поездов, Георгия Победоносца и памятника Ермаку, серпа и молота, рабочих и казаков. Они носили в народе экзотические названия: керенки, ленинки, пятаковки, лимоны, лимонарды, колокольчики, семечки, ермаки, малессоновки, дутовки, верблюды и овцы, хлебные и бычачьи деньги. И только в 1923 году появился первый твердый кредитный билет — транспортным сертификат, предвестник «червонцам». Сам же «червонец» (его золотое содержание было установлено в один золотник 78, 24 доли чистого золота, как в дореволюционной десятирублевой монете) выпускался купюрами в 1, 2, 3, 5, 10 и 25 червонцев и стал основой денежной реформы 1922–24 годов, сопровождавшей НЭП. Его графический дизайн оказал очень сильное влияние на всю официальную графику 20-х годов.
Возвращаясь к почте как системе связи, нельзя обойти вниманием проектирование новой формы почтовых служащих. Декретами советской власти все дореволюционные почтовые чины были упразднены и было запрещено носить прежние нашивки, петлицы, кокарды. Но почтовые работники не могли внешне раствориться среди остального населения. Летом 1923 года в популярном журнале «Огонек» (№ 8, с. 32) сообщалось: «За последние месяцы участились случаи, когда злоумышленники выдают себя за почтальона или рассыльного и таким образом проникают в квартиры обывателей с целью грабежа. Для борьбы с этим злом Наркомпочтель с 1 июня вводит особый нагрудный знак для своих почтальонов и рассыльных, на который есть порядковый номер». Этот опознавательный знак (рожок и стрелы в венке из лент) предписывалось носить на левой стороне груди и головных уборах.
Впоследствии, при нарастании авторитарной власти в стране и режима массового террора почтовое дело, включая форму почтовых работников, все больше бюрократизируется и усложняется в деталях, а дизайн используется как сильное орудие государственной политики.
На заре массового радиовещания
Радио, столь привычное в наши дни, было технической новинкой в первой трети XX века. На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде искровые радиоустройства А. Попова, которые он называл «грозоотметчиками», воспринимались как диковинные изобретения. С помощью передающих и приемных антенн телеграфные сигналы принимались без проводов на расстоянии 250 м. На следующий год Попов установил связь между кораблями «Африка» и «Европа» на расстоянии 5 км, а еще через два года при спасении наскочившего на камни броненосца удалось осуществить передачу по радио на 46 км.
Первые радиоприемники Попова были лабораторно-техническими аппаратами, но выполненными очень тщательно, с применением ценных пород дерева для корпуса. Это образцы русского инженерного дизайна.
Радиосвязь в России развивалась, числясь за военно-морским ведомством. Оно быстро засекретило все опыты. Поэтому, когда итальянец Г. Маркони оформил в Англии патент на прибор для телеграфирования без проводов, российский приоритет не был международно заявлен. Английское акционерное общество «Маркони» быстро захватывало рынок и в предвоенные годы поглотило «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ), получив право строить и эксплуатировать в России мощные радиостанции. Значительная часть аппаратуры для береговых, судовых и армейских радиостанций завозилась из Германии.
В конце 1914 года англичане смонтировали две радиостанции — в Царском селе под Петроградом и на Ходынском поле в Москве. Они обеспечивали связь с союзниками — Францией и Англией.
Тогдашние радиостанции были настоящими техническими монстрами. Для их работы нужны были мачты, между которыми на большой высоте подвешивались металлические тросы. От военно-морского ведомства пошло и само название «антенна», что в переводе с латинского языка означает металлический или деревянный поперечный брус, прикрепленный к мачте судна для крепления прямых парусов и поднятия сигналов. На Ходынском поле было 11 мачт, видных за несколько километров. На самой станции неимоверный шум от компрессоров, подававших воздух к контактам разрядников, электродвигателей, вращавших разрядники, и хлопков, сопровождавших искры, заставлял дежурных переговариваться только жестами. «Стрельба» разрядников разносилась на два километра вокруг.
С переездом правительства в Москву в 1918 году Ходынская станция стала работать по 12—15 часов в сутки и стала все время выходить из строя. Ее непрерывно ремонтировали.
Летом 1919 года Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление, в котором говорилось, что для обеспечения надежной и постоянной связи центра республики с западными государствами и окраинами страны Наркомпочтелю поручается в чрезвычайно срочном порядке установить в Москве новую радиостанцию, оборудованную наиболее совершенными приборами и машинами. Все работавшие на установке радиостанции считались мобилизованными, не подлежали призыву в армию и должны были получать военный паек.
Для создания новой радиостанции были уже реальные условия. В Нижегородской радиолаборатории были созданы мощные отечественные радиолампы с водяным охлаждением. Их изобретение — еще один классический пример инженерного дизайна. Принцип действия радиолампы заключается в нагреве катода, который раскаляется до ярко-красного цвета, чтобы получить поток электронов. Рядом находится анод, который должен быть холодным. При замкнутой цепи исходит импульс радиоволн. Различия в нагреве до этого осуществлялись применением разных металлов — хорошо и плохо нагревающихся. Они были очень дорогими и их мощность не превышала 100 ватт.
Существует версия, что в Нижегородской радиолаборатории инженер М. Бонч-Бруевич для создания новой лампы использовал принцип действия русского самовара. Внутри него раскаленные угли (катод), которые нагревают трубу (анод), снаружи вода, отбирающая тепло. Если в самоваре цель — вскипятить воду, то в радиолампе — охладить водой трубу анода. Тогда анод можно делать из дешевой меди, хорошо проводящей тепло. Так от 100 ватт можно было перейти сразу к киловатту, что стало соизмеримо с разрядными передатчиками, но без их «стрельбы» со снопами искр. С 1919 по 1925 годы нижегородским радиоинженерам удалось увеличить мощность таких ламп до 100 киловатт, создав самые мощные тогда лампы во всем мире.
Заказ на сооружение будущей радиостанции был передан в Государственное объединение радиотехнических заводов (ГОРЗы), являвшегося правопреемником национализированного РОБТиТа. В нем сделали несколько вариантов станции, которая могла бы круглогодично поддерживать связь даже с Владивостоком и Нью- Йорком по 22 часа в сутки. Техническая фантазия разработчиков не знала границ. Но если лампы с воздушным охлаждением требовали только пожарной безопасности (хорошей изоляции при высоком напряжении) и сооружения внутренних водопроводов для охлаждения, что не выходило за пределы интерьера станции, то предложения ГОРЗы затрагивали самые серьезные аспекты окружающей среды. Сегодня их проекты воспринимаются как самая мрачная фантастика, тогда же они были нормой революционно-футурологического мышления.
ГОРЗы предложило разместить радиостанцию на территории Кремля, чтобы ходить было недалеко и радиосигналы излучались в эфир прямо из штаба мировой революции.
Главное в радиостанции — воздушная сеть. Ее предложили подвесить либо на три мачты высотой 350 метров, либо на две мачты высотой 350 метров и две по 275 метров. В результате получалось сооружение грандиознее Эйфелевой башни, достигающей 300 метров. Кроме того, Эйфель строил одну на большом равнинном пространстве, а в Кремле их должно было быть несколько и их опутывали сетью проводов.
Сразу же возникает вопрос: возможно ли это было как теоретически, так и практически, ведь проект Эйфеля вызвал громкий скандал в Париже, а тут шла речь об уничтожении градостроительного замысла всего Кремля, да и средств не хватало. Но если познакомиться с проектной фантастикой тех лет, то придется констатировать — теоретически такой проект был вполне закономерным.
Вспоминая о том, как создавалась книга «Месс-Менд, или Янки в Петрограде», М. Шагинян отмечала: «Может быть, читатель удивится тому, как описывает Джим Доллар Петроград 23-го года. Разумеется, он не был и не мог быть таким, и его чудесные лаборатории, Аэро-электроцентраль и экспериментальные заводы — плод авторской фантазии. Но я решила описать нашу страну такой, какой мерещилась она мне в далеком будущем, — светлой страной непобедимой техники, величайших открытий, победы над голодом, климатом, болезнями». Проектировщики ГОРЗы, как говорится, уже ощущали это будущее руками.
Что же касается соборов Кремля, их вообще не принимали в расчет, а захваченные богатства дореволюционной России манили возможностью легко приобрести все необходимые материалы. Практически воплотить этот фантасмагорический план в жизнь намеревались, обратившись к В. Шухову, специалисту по созданию металлических башен. Самое интересное в том, что он принял вызов, сделал эскизный набросок и рассчитал необходимость для стройки в 2200 тонн металла на одну мачту-башню сетчатой конструкции. Правда, ему не пришлось решать для себя моральную проблему возведения радиостанции в Кремле. При более внимательном расчете ее эффективности выяснилось, что высокие металлические массы куполов Ивана Великого и Успенского собора, крыши и металлические конструкции Кремлевского дворца резко снижают дальность действия радиоволн (до 800 км). Нужно было искать место без металлического фона. Оно было найдено в Замоскворечье, на участке бывшего дровяного рынка близ улицы Шаболовка. Рынок давно опустел, на дрова разбивали брошенные деревянные дома. Была осень 1919 года.
На коллегии Наркомпочтеля проект не был принят. Из-за нехватки металла решили построить одну башню и в два с лишним раза ниже. В ГОРЗы было составлено проектное задание на башню в 150 метров со стеньгой в 10 метров, к которой подвешивалась воздушная сеть. Шухов убрал три нижних, наиболее крупных секции, изменил фундамент, составил другую спецификацию профилей металла и сократил его расход почти в десять раз. Это позволила его универсальная идея гиперболоидной стальной конструкции, «привилегия» на которую была им получена в патентном управлении еще в 1896 году.
Об открытии принципа гиперболоида вращения в строительстве сетчатых башен Шухов однажды рассказал с подлинной дизайнерской образностью (запись Г. Ковельмана):
«В музыке народные мотивы давно уже считаются признанными источниками замечательных произведений. Все с наслаждением слушают, например, «Камаринского» Глинки. А вот мы, люди техники, еще не осознали возможности черпать материал из народной копилки, куда веками складываются образцы мастерской выдумки, смекалки.
О гиперболоиде я думал давно, шла какая-то глубинная, немного подсознательная работа. Но все как-то вплотную к нему не приступал. И вот однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу: моя ивовая корзинка для бумаг перевернута вверх дном, а на ней стоит довольно тяжелый горшок с фикусом. И так, знаете, ясно встала передо мной будущая конструкция башни. Уж очень выразительно на этой корзинке было показано образование кривой поверхности из прямых прутиков... Во времена Нижегородской выставки, если кто скажет мне, бывало, что никогда такой водонапорной башни не видел, всегда направлял я в кустарный отдел — плетеные корзины смотреть».
Башня была построена телескопическим методом: все шесть секций собрали на земле, а потом при помощи пяти ручных лебедок каждую более узкую секцию протаскивали наверх через предыдущие и крепили болтами. 19 марта 1922 года радиопередатчик Шаболовской башни вступил в эксплуатацию, а сама башня стала символом новой технической эстетики.
Пока возводилась московская радиостанция, в Нижегородской лаборатории в январе 1920 года была проведена первая радиотелефонная передача. Вместо телеграфных сообщений в эфир пошла живая речь. В марте в Москве начали сооружать Центральную радиотелефонную станцию и 17 сентября 1922 года по радио прозвучал первый концерт. Внутренние помещения радиодома еще не были оборудованы и стены отражали звук, делая неестественными музыку и голос, поэтому передача шла со двора. Вынесли на улицу рояль и в эфире прозвучал романс Полины из оперы П. Чайковского «Пиковая дама» в исполнении Н. Обуховой... Вскоре начались регулярные радиотелефонные передачи станции, получившей название «Коминтерн». Их можно было принимать на детекторные приемники с наушниками, а на площадях и улицах слушать через громкоговорящие рупоры.
Массовое радиовещание сразу же было поставлено на службу государственной политики. Ленин относился к радио прежде всего как к агитатору, пропагандисту и стремился превратить его в «газету без бумаги и без расстояний».
Радио и телевидение в художественной и массовой культуре
Возможности радио привлекали к себе художников и архитекторов авангардистского направления. В Памятнике III Интернационалу, спроектированном В. Татлиным в 1919–20-х годах, радио и провода являлись не только техническими средствами информации, но и элементами формы, демонстрируя интеграцию новейших изобретений в технике и искусстве.
Г. Клуцис, разрабатывая проекты праздничных установок для оформления Москвы к 5-й годовщине Октябрьской революции и открытию 4 конгресса Коминтерна, создал целую серию «Радиоораторов» (1922 год). Один из них, названный «Интернационал», снабженный антенной и прожектором, был установлен на здании гостиницы на Тверской улице в Москве, где жили делегаты конгресса. Клуцис использовал в конструкциях «Радиоораторов» легкие опорные деревянные рейки, монтируя их в виде креста, прямоугольника, пирамиды, и водружал на них художественно стилизованные рамки проволочных антенн. Вместе с ярко окрашенными рупорами они создавали впечатление необычное и праздничное.
Эль Лисицкий, обратившись в 1924 году к проекту трибуны для митингов на площади (который за несколько лет до этого выполнил под его руководством И. Чашник в Витебской художественной школе), добавил к нему радио и киноэкран, превратив трибуну в динамическую аудио-видеоустановку. В обычные дни трибуна должна была представлять собой куб, внутри которого находился мотор, а над ним возвышалась с наклоном вперед телескопически сложенная стрела, похожая на стрелу подъемного крана или пожарной лестницы. Перед митингом, пока собирался народ, стрела выдвигалась на максимальную высоту (до 21 метра), наверху раскрывался как парус киноэкран и начинало звучать радио, тем самым активно организуя митинг.
Радиоантенны простой и сложной конфигурации очень любили включать в свои проекты архитекторы- конструктивисты, мастерски играя на контрастах объемов зданий и ажурных наверший. Например, в проектах «Дворца труда» братьев Весниных (1922–23 гг.), деревенского книжного киоска А. Гана (1923), избы-читальни А. Лавинского (1925) антенны играли одну из главных ролей вписывания в пространство сложных геометрических форм архитектуры и имели, конечно, больше декоративно-композиционный, чем функциональный характер.
В интерьерах общественных зданий подчеркнуто заметно устраивали радиоуголки, используя не только радиоприемники и репродукторы, но и печатную рекламу, настенные и объемные агитустановки с типовыми лозунгами «Стройте газету без бумаги и расстояний. Ленин», «Радио — лучший способ единения трудящихся всего мира», «Для радио нет границ» и т.д.
Сильное воздействие на новую эстетику радио оказала Первая всесоюзная радиовыставка в Политехническом музее в Москве, которая работала с июня по октябрь 1925 года.
На выставке были представлены первые потребительские детекторные приемники, различные радиоустановки для помещений и на открытом воздухе, вполне функциональные и деловые и, наоборот, обильно украшенные профессиональными и самодеятельными художниками. Самыми экзотическими были детекторные приемники в фарфоровых стаканах, украшенных агитросписями на тему радио, и деревянные матрешки, расписанные под древнерусских витязей с вмонтированными в них приемниками (особенно рекламировалась «Радиоигрушка М. Красоткина»).
Радио среди населения пропагандировал и магазин «Все для радио» Н. Шаурова, располагавшийся в центре Москвы, в Столешниковом переулке. Его фасад был украшен рекламой, включавшей кроме названия большой земной шар с наушниками. Магазин имел пять отделений и способствовал развитию самодеятельного радиолюбительства.
Радиовещание в конце 20-х и в 30-е годы было в основном государственно-программным, то есть жители слушали по репродукторам специально транслируемые для них передачи. В 1924 году было основано Общество по широкому вещанию «Радиопередача», которое занималось подготовкой программ, развитием технических средств кабельного вещания и строительством радиостанций и трансляций. Выпускались «радиогазеты» для взрослых и детей (например, «Пионерская зорька» вышла в эфир 23 ноября 1924 года), организовывались периодические радиоконцерты.
В 30-е годы, когда появились радиоприемники бытового назначения, работавшие на коротких и средних волнах, их приобретение и установка были связаны с обязательной регистрацией по месту жительства или использования. Владельцы заполняли анкеты и получали абонентные карточки и должны были платить отдельно за радиоточку, за репродуктор, добавочную розетку, детекторный, ламповый приемники, антенну, мачту и заземление (регистрация и оплата проходили через почту). Безусловно, это делалось не только для взимания налога на радиослушание, а скорее всего для учета, кто, что и зачем слушает, поскольку, как гласил лозунг «для радио нет границ».
В мае 1931 года в СССР началась эпоха отечественного телевидения. Самые ранние телевизионные аппараты работали путем механической развертки изображений с четкостью 30 строк. Для этого, еще малострочного телевидения были сняты специальные телефильмы о праздновании 1 Мая, 15-летия Октябрьской революции, о пуске Днепростроя. Телевизоры носили название Б-2 конструкции А. Брейтбарта.
В 1936 году в Ленинграде начались программы телепередач, рассчитанные на аппараты с кинескопами системы Г. Брауде отечественного производства. К тому времени в год подготавливалось около 300 передач в общей сложности на 200 часов вещания.
Когда немного позднее решили открыть телецентр в Москве, то все оборудование для него приобрели по лицензии в США. Так появились советские серийные телевизоры электронной системы ТК-1 со стандартом 343 строки. Телевизоров было мало, всего несколько десятков, но система связи работала, как и в других странах, включая печатание программ типографским способом, рекламу.
В 1940 году населению стали продавать электронные телевизоры 17-Т-1 и телевещание сделалось более доступным. Но широко вошло в быт оно только после реконструкции Московского телецентра в 1949 году, когда телевещание получило четкий стандарт в 625 строк. В продаже тогда были приемники «Москвич-1», «Ленинград Т-2» и производившийся многие годы «КВН-49».
Дизайн радио и телевизионной приемной аппаратуры в СССР не был самостоятельным. При внимательном ознакомлении с их техническими характеристиками узнаешь, что в их основе были уже апробированные американские и немецкие образцы, освоенные на советских заводах с небольшими модификациями внешнего вида (главным образом, в графическом дизайне, поскольку надо было вводить русский шрифт). Интереснее оказываются специальные радиопередающие и принимающие аппараты, в которых заботились не столько о товарном внешнем виде, сколько о надежности работы. Это была военная и полярная аппаратуры, в том числе и та, которой пользовались летчики, моряки, покорители Северного полюса. Время от времени ее показывали на выставках: в Политехническом музее, в советских разделах зарубежных международных выставок, а с 1939 года — на ВСХВ в Москве. Вместе с сопроводительной технической и рекламной печатной продукцией она представляет несомненную ценность для истории мирового дизайна.
Почта 30-х годов
В начале статьи мы остановились на почте в СССР периода НЭПа. В годы пятилеток почтовая система превратилась в разветвленную структуру, обеспечивающую население связью и одновременно выполняющую надзирательную функцию. Почтовые работники были близки правоохранительным органам, охватывая города, поселки, деревни, места заключения. Был разработан стиль почты начиная с почтовых ящиков, которые устанавливались при входах и внутри почтовых предприятий, на почтовых вагонах, на железнодорожных станциях и платформах, пароходах, пристанях, стенах сельсоветов, изб-читален, школ, на перекрестках улиц, даже на трамваях и некоторых маршрутах автобусов. Вложения в почтовые ящики охранялись законом.
В самих почтовых отделениях кроме обработки корреспонденции (которую там же и просматривали представители «органов») осуществлялась подписка на газеты и журналы, были отделения сберкасс, взимались налоги и коммунальные платежи, проводилось страхование, оплачивались займы, распространялись официальные повестки и вызовы.
История советской почты 30-х годов настолько резко выходит за пределы собственно профессиональных проблем, что относящиеся к ней документы, описания и свидетельства современников читаешь, как многостраничный и глубоко драматичный роман. Письма «туда» (в места заключения, в армию, в «глубинку») — они имели свой облик, свой путь, своих «провожатых». Только один пример: инструкции доставки корреспонденции и вещевых и продовольственных посылок агентами, сельскими агентами, письмоносцами, уполномоченными включали в себя все детали тотальной слежки, всевозможных разрешений и (еще больше) запретов, контроля за доставкой, включая ярлыки (разного вида и цвета, имевшие знаки серпа и молота и почтового рожка), которые должны были обмениваться на «этапах следования корреспонденции», чтобы удостовериться была ли вообще почта или нет. И как бы ни было тяжело корреспондентам и почтовым работникам, надо, к чести, последних сказать ясно и громко — они старались максимально выполнять свой гражданский и просто человеческий долг. Люди, одетые все без исключения в форменную одежду: от начальства в темно-синих костюмах или белых кителях с темно-синими брюками с пуговицами из желтой латуни с тиснеными эмблемами связи, инженеров и техников в костюмах попроще с пуговицами из белого металла до простых почтовых работников, включая письмоносцев и уборщиков (последние, как правило, были осведомителями) в спецовках, но со значками (на стрелу красного цвета были наложены серп и молот желтого цвета).
Система связи, нервная система страны, принимала на себя все удары ее судьбы, что отражалось и на дизайне в этой сфере.
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях:
