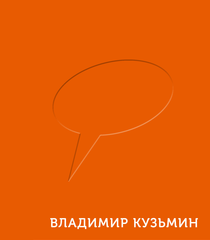Руководитель студии «Поле-дизайн», архитектор и дизайнер Владимир Кузьмин один из немногих обладателей Государственной премии. Его харизма и желание исследовать этот мир отражаются во всех его проектах, рождающихся на стыке архитектуры и дизайна. Яркий внутренний мир, яркая одежда и яркие идеи как нельзя лучше характеризуют автора. Многолетний опыт мастера и его коллег мы собрали в новой книге «Оранжевый радостный • Владимир Кузьмин». Это не только монография, но и источник вдохновения, идей, свободных от шаблонов. Материал из этой книги, который мы публикуем, сложно назвать интервью, это беседа главного редактора и директора издательства TATLIN Эдуарда Кубенского с Владимиром Кузьминым о творческом пути, преподавании в МАрхИ, учителях, вечных вопросах дизайнера и архитектора и знаменитых оранжевых штанах.
Делать из ничего нечто

- Текст:Эдуард Кубенский29 июня 2024
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
Эдуард Кубенский (Э. К.): Мы с вами последнее время достаточно плотно общаемся, были даже совместные проекты, мы часто находим общие темы в архитектуре и дизайне, и я знаю, как вы долго шли к этой монографии. Мне бы хотелось, чтобы это было похоже не на интервью, а на своего рода беседу. В первую очередь меня интересует Кузьмин по одной лишь причине: меня интересую я сам, а через общение с вами мне будет легче понять себя. Так что профессиональные вопросы мы, конечно, затронем, но лишь для того, чтобы привлечь внимание молодой аудитории, ищущей секреты мастерства.
Я не буду задавать вам те вопросы, ответы на которые пытливые умы смогут найти в ваших прежних интервью, и поэтому просто перечислю их, чтобы читатель был в курсе и при желании смог продолжить общение с вами, найдя ответы в указанных в книге источниках. Сколько лет вы уже в профессии? Как вы умудряетесь «выстреливать» одновременно в архитектуре и дизайне? Работа в одной области помогает вам в другой? Как вы думаете, за что вас любят заказчики? Сильно ли технология проектирования зависит от технологии строительства? Какая область архитектуры и строительства вам наиболее интересна? За какую работу вы никогда бы не взялись? Должен ли архитектор быть хорошим менеджером? Какое понятие вы вкладываете в словосочетание «современная архитектура»? Какие формы презентации сегодня наиболее актуальны? Есть ли разница между выставкой для профессионалов и для «простой» публики? Какие проблемы существуют в области современного экспонирования? Бывало ли такое, что вы отказывались от какого-то проекта? Почему вы могли бы отказаться от проекта? Что вам дают новые технологии? Как ваши собственные дети влияют на вас в вашем творчестве? Есть ли у вас опыт работы за рубежом? Как вы считаете, сейчас для вас есть реальная возможность выхода на международную арену? В большинстве заданных вам ранее моими коллегами вопросах, как мне кажется, скрыты и ответы на них, и даже если наш читатель не доберется до библиотеки, он сможет сам сформулировать ответы на них после нашей беседы с вами, ведь их периодически задает себе самому любой профессионал, следящий за собственным курсом.
Итак, 40 лет назад, в 1984 году, вы поступили в МАрхИ. В 1992 году окончили институт в мастерской Александра Ермолаева. Была еще служба в армии с 1985 по 1987 год. У вас диплом архитектора. Ваша мама была архитектором, бабушка тоже имела отношение к искусству. Вы неплохо рисовали, судя по рисунку маме. Так с чего вдруг дизайн?
Владимир Кузьмин (В. К.): А ведь действительно, прошло уже 40 лет, как я поступил в МАрхИ. Сколько же мне сейчас?
Э. К.: Вы родились в 1967 году.
В. К.: Спасибо! Моя родная бабушка по линии отца была художником и еще художественным редактором. Она была чуть ли не «смолянкой» (воспитанницей Смольного института. — Прим. ред.) и получила очень хорошее образование. Специально изобразительному искусству нигде не училась, но в 50–60-е годы работала, в том числе, как художник по росписи тканей. В нашей семье до сих пор сохранились какие-то трубочки, воск, наборы инструментов, которыми она расписывала шелковые ткани. Будучи экспертом в области прикладного искусства, она вела тематическую колонку в одной из столичных газет. Моя мама училась в Московском архитектурном институте на «градо». Окончила его в 1955 году. Была специалистом, а позже руководителем мастерской Института Генплана и ГлавАПУ. Работала над градостроительными проектами промзон, как бы сейчас сказали, занималась развитием территорий. Я общался с несколькими ее бывшими подчиненными, и они до сих пор вспоминают ее с большим пиететом. Отец с архитектурой никак не был связан, кроме того, что его лучший друг учился в МАрхИ, так они и познакомились с мамой. Сам отец был выпускником Иняза (Институт иностранных языков. — Прим. ред.) и всю жизнь занимался техническим редактированием зарубежных научных изданий в периодическом журнале ВИНИТИ. Другими словами, можно сказать, что я вырос в наполовину творческой семье.
Э. К.: Кроме того, вы еще и коренной москвич.
В. К.: Да, совершенно верно. В пяти поколениях.
Э. К.: То есть генетически в вас был заложен художник, и ваш путь был предопределен?
В. К.: А вот и нет, выбор у меня был. Например, когда мне было два года, я хотел быть поваром. Это было стойкое желание, которое я сознательно транслировал родителям. Потом, когда мне было лет шесть, я хотел быть дворником, видимо, потому что образ грозной дворничихи, которая гоняла нас метлой по двору в Измайлово, где я жил, достаточно четко врезался в мою память. К десяти годам я уже хотел быть архитектором или художником, а с одиннадцати учился классическому рисунку у замечательного преподавателя Александра Комракова. Александр Михайлович занимался тем, что создавал удивительные реалистичные иллюстрации к детским книгам. Он в деталях изучал все объекты, которые изображал, и учил меня академическому рисунку. Он привил мне культуру буквального изображения, и я очень ему благодарен, впоследствии это умение и знание сильно мне помогало. После школы я поступил в Архитектурный институт. Короче, мой выбор складывался в течение многих лет, но был вполне осознанным.
Через дефис
Э. К.: Одни называют вас архитектором, другие дизайнером. Вы какую-то границу между этими профессиями делаете? Кем вы себя больше ощущаете, и в чем вообще разница между архитектурой и дизайном?
В. К.: Это разные вопросы. Отвечу на первый и останусь верен государством утвержденному статусу, который я получил, будучи одним из первых выпускников кафедры дизайна архитектурной среды МАрхИ, где черным по белому написано «архитектор-дизайнер». Конечно, можно прочитать запись в моем дипломе как «архитектор минус дизайнер» (смеется), что в принципе многими архитекторами так и трактуется, потому что считается, что если ты дизайнер, то ты точно неполноценный архитектор. Но это не так в нашем случае.
Э. К.: И чем, на ваш взгляд, могла бы заканчиваться формула «архитектор минус дизайнер»?
В. К.: В том-то и дело, что в дипломе не стояло «=», поэтому я и архитектор, и дизайнер. Видимо, дефис обозначал равность статусов и, соответственно, равное отношение к дисциплинам. В каком-то смысле весь наш путь, по крайней мере мой, моего друга Владислава Савинкина и прочих замечательных коллег, которые разделили с нами эту судьбу через дефис, подтверждает правильность этой точки зрения, потому что возможность, которую нам дали в институте, позволила быть и тем, и другим одновременно. Временами доминировал первый, временами второй, но, по крайней мере, мы чувствовали и чувствуем себя абсолютно свободными в творческом плане людьми. Мы никогда не сомневались и не смущались своей записи в дипломе, и я всегда говорю: «Я архитектор-дизайнер». Мне кажется, в высоком смысле эти профессии ничем не отличаются. Ведь невозможно себе представить Фрэнка Гери, Заху Хадид, Тадао Андо и многих других без их проектов для Vitra, Миса ван дер Роэ без стула «Барселона», Фрэнка Ллойда Райта с его органической архитектурой без органичной ей мебели и так далее, в глубь веков до Рима и Греции. И если мы посмотрим на сегодняшнее время, то столкнемся с тем же.
Возможно, люди будут называть себя или архитекторами, или дизайнерами, а делать они будут ровно то же самое. Но надо признать, что в последние несколько десятилетий эта ситуация становится все более и более дифференцированной: архитекторы все меньше занимаются дизайном, а дизайнеры все меньше архитектурой. Происходит это в связи с изменившимися условиями труда, с одной стороны, и средств проектирования — с другой. И всеобъемлющая роль творца всего, какая была в прежние времена и которую мы еще застали как память о великом, сейчас исчезает. Думаю, могу сказать больше — сейчас не время Леонидовых, не время протагонистов, не время демиургов. Сейчас время перегноя.
«Меньше рефлексий, больше прикосновений» (А. Ермолаев)
Э. К.: Да, ваша теория «перегноя» вызывает у меня интерес, мы еще вернемся к ней, а сейчас давайте поговорим о ваших педагогах в МАрхИ, «удобривших» молодую поросль первого выпуска кафедры архитектурной среды.
В. К.: Да, мы были первым выпуском. В 1987 году Георгий Борисович Минервин создал на обломках кафедры интерьера в МАрхИ кафедру дизайна архитектурной среды и пригласил туда совершенно удивительный состав педагогов: Андрея Владимировича Ефимова, Владимира Тихоновича Шимко, Александра Павловича Ермолаева и еще несколько довольно молодых людей, которые были выпускниками как раз группы Ермолаева, к тому времени уже ассистировавшими ему. Минервин, создав эту кафедру, взял под свое крыло совершенных леваков, если можно так сказать, неформалов в области проектирования. И сейчас, спустя четверть века, на кафедре преподает тотальное большинство представителей школы Ермолаева.
Э. К.: Без сомнения, вам повезло с учителем — я имею в виду Ермолаева, и он, как я понимаю, достаточно сильно повлиял на вас как творческую личность. У меня немного другая история, мой главный учитель был еще в художественной школе. В институте я как бы повторял все, что он мне дал, за исключением каких-то чисто технических знаний. Я до сих пор поддерживаю отношения со своим учителем и часто вспоминаю его фразы, которые помогают мне, если так можно сказать, не заблудится. Это далеко не знания по композиции, а скорее, его наблюдения меня, его опыт, его взгляд на мир, который сегодня уже осознан мной. Например, он говорил: «Тебе, Кубенский, надо чаще ноги ломать, у тебя от этого голова начинает работать»; «Слушай всех, а делай по-своему»; «Торопиться надо медленно»; «Присмотрись к девочке Тане из параллельного потока» и так далее. Их немного, но они всегда у меня в голове. Сегодня, спустя 40 лет, какие слова вашего учителя остались с вами, и вы можете сказать, что это и ваши слова тоже? И наверняка есть у вас в жизни еще какие-то учителя, у которых вы учитесь, у которых хотели бы учиться, у которых подглядываете, подсматриваете, обращаете особое внимание на их проекты.
В. К.: Мир современной художественной культуры второй половины ХХ века был для меня далек. Как уже было сказано, я получил академическую подготовку до поступления в МАрхИ, а в институте практически сразу попал в сферу влияния Ермолаева, и это случилось еще до того, как образовалась кафедра, так как на втором курсе он преподавал у нас рисунок. Около года до этого, то есть весь второй курс, я участвовал в работе кружка «ТАФ» (Театр архитектурной формы. — Прим. ред.). Нельзя сказать, что я хорошо понимал значение того, что там делалось, но Ермолаев вызывал у меня очевидный интерес во всех смыслах, и как личность, и как профессионал, и как педагог, потому что он заметно отличался в своих суждениях и действиях от среднестатистического педагога Московского архитектурного института, который, в общем-то, сидит и смотрит, как студенты занимаются какой-то фигней и иногда их в чем-то поправляет. Я сам педагог МАрхИ более 20 лет и имею право говорить то, что видел и вижу вокруг. Всему, что нам преподавал Ермолаев, я изначально активно сопротивлялся, потому что был воспитан именно на прямолинейных и традиционных ходах. «ТАФ» был для меня в буквальном смысле формированием себя как человека этого времени, а не какого-то прошлого. У меня не было никаких других учителей в институте, был только Ермолаев. Я не стесняюсь в этом признаться и, напротив, с каждым годом все больше понимаю, насколько важным это было для меня как человека этой профессии и, как выяснилось впоследствии, педагога.
Э. К.: Я заметил, вы избегаете слова «профессионал». Почему?
В. К.: Потому что Александр Павлович не учил нас быть профессионалами. Ермолаев учил нас реагировать, быть людьми и, так сказать, проводниками художественного проектирования.
Э. К.: Художественное проектирование — ведь именно так на Сенеже Евгений Розенблюм называл привычный нам сегодня дизайн в целом и дизайн городской среды в частности, и Ермолаев, насколько я знаю, был одним из его последователей. В те времена, если можно так сказать, было два лагеря, один из которых возглавлял Розенблюм, а второй — Юрий Соловьёв, ставший одним из основателей ВНИИТЭ, журнала «Техническая эстетика» и Союза дизайнеров, пропагандировавший новое по тем временам понятие «дизайн».
В. К.: Совершенно верно. Все эти люди, которые представляли тогда культуру советского дизайна или художественного проектирования в данном случае, появились в моей жизни как раз благодаря Ермолаеву и Минервину, они, собственно говоря, эту культуру и привнесли в МАрхИ, сформировав новый взгляд на реальность и на обучение. Ничего подобного до их прихода в академической подготовке архитекторов не было. Это вызвало достаточно серьезный переполох, архитекторы забеспокоились: как же так, их подвигают с пьедестала. Их реакция была довольно смешная: «Да этим всем, чем вы занимаетесь, занимается архитектор. Зачем нам нужна еще какая-то специальность». Удивительно, но эта точка зрения жива и поныне.
 Театр архитектурной формы Александра Ермолаева, 1990
Театр архитектурной формы Александра Ермолаева, 1990
Притцкер
Э. К.: Давайте сразу перепрыгнем к Притцекровской премии (смеется).
В. К.: Что вы хотите узнать? (смеется)
Э. К.: Однажды вы мне сказали, что планировали получить ее уже спустя пару лет после окончания института. Это отчасти похоже на меня, который за этот же срок планировал сместить с пьедестала современности звезд мировой архитектуры того времени. Что пошло не так? (смеется)
В. К.: Это была такая юмористическая трактовка на выходе из института. Учеба под руководством Александра Ермолаева, встречи с Евгением Ассом, Галиной Курьеровой, Игорем Березовским, Еленой Черневич и другими из этой плеяды накладывали на нас ощущение времени, которое менялось на глазах. Радикальные изменения сложившегося уклада жизни, тогда еще, наверное, неосознаваемые нами, уже существовали реально, и уже позволялось то, что немыслимо было представить раньше: первые поездки за рубеж, встречи с иностранными коллегами, приезд Уильяма Олсопа, выставка Филиппа Старка, были какие-то потрясающие ситуации, связанные с открытием новых имен, книги о дизайне, которых раньше не было в принципе, кумиры, на которых можно молиться, подражать им и двигаться в этом направлении, что мы и делали всякий раз. Оттуда «ноги» у нас и выросли, и «руки», и «голова». Нам казалось, что и до Притцкера рукой подать (смеется). Это говорил человек, который ничего не понимал в форматах присуждения премий как таковых, а уж про Притцкер тем более. Но скорее здесь речь шла не о получении какой-то премии, а о том, что наше поколение выпускалось с ощущением возможностей, ожиданием неких значительных свершений, которых мы сможем достичь в новой, как нам казалось, неожиданно возникшей реальности, и в которой мы волей судеб оказались.
Я сейчас это говорю в буквальном смысле. Мы выпустились в начале 90-х. Это было как раз то время, когда мы все находились в процессе перемен и ожидали еще более глубоких перемен в дальнейшем. И позднейшая история показала, что эти ожидания, по сути, оправдались, но совершенно не так, как мы себе это представляли в 90-х. И конечно, мы не стали лауреатами Притцкерской премии. Сказать, что я об этом жалею, я не могу, но я жалею о том, что мечты, которые у нас были, трансформировались в реальность совершенно иным образом.
Э. К.: В чем же отличие ожиданий и реальности?
В. К.: Расскажи Богу о своих желаниях, и он посмеется над тобой. Архитектура и дизайн, которые мы себе представляли и которые, как нам казалось, должны были развиваться определенным образом, развивались еще более интенсивно и совсем в другом векторе, чем тот, что себе наметили мы. Наше представление в тот момент носило скорее идеалистический характер. И, по сути, до начала нулевых это представление еще сохранялось в своем очевидном позитиве, в понимании того, что мы становимся частью мира, что мы будем работать вместе с великими мировыми мастерами. Такое вот ощущение того, что мы являемся частью архитектурного мира в целом, а не возделываем свою конкретную грядку.
Э. К.: Эти ваши ощущения остались с вами сегодня?
В. К.: Да, как и ощущения их несовпадения с реальностью. Я отношусь к ним не как к тому, что является чем-то временным, скорее, эти ощущения продолжают греть меня, и когда я хотя бы какие-то черты этого романтизма нахожу в реальности либо что-то создаю в ней, я считаю, это успех. Успех для меня — когда я не изменяю своим ощущениям.
Не оценивать, а реагировать
Э. К.: Вы коснулись разных времен и даже эпох. В 70-е вы хотели быть поваром и дворником, в 80-х — архитектором-дизайнером, в 90-х планировали получить Прицкера, в нулевых активно, а в 10-х еще более активно преподавали и при этом каким-то чудом сохранили в себе романтизм. Вы можете описать свои ощущения от этих времен, какие из них вам больше нравятся, какие больше подходят вам? На какой возраст вы себя сегодня ощущаете?
В. К.: Во-первых, наш учитель учил нас не оценивать что-либо, а реагировать. И в этом смысле во все времена, которые вы назвали, я жил и живу сейчас с полнотой и ощущением каких-то радостей. В любое время можно жить полной жизнью в зависимости от того, умеешь ли ты должным образом реагировать на происходящее, меняться сам и менять, если это тебе удается, те процессы, которые возникают вокруг тебя. Поэтому я бы сказал, что у меня нет никаких сожалений или противоречий со всеми названными периодами.
Где-то было жить приятнее и интереснее, где-то было жить труднее. Пожалуй, самые благостные времена личностного роста — это первое десятилетие XXI века. Тогда мы достаточно свободно перемещались по миру — я имею в виду, не только в физическом плане, скорее, мы воспринимали себя как часть мировой культуры. Мы были относительно обеспечены, учитывая экономическую ситуацию на тот момент, и нам казалось, что наш труд наконец оценивается по достоинству. Я сейчас имею в виду конкретный материальный аспект, что тоже важно, потому что в результате позволяет многого достичь.
Э. К.: Раз вы все-таки акцентировали нулевые, что изменилось по сравнению с ними в десятых?
В. К.: Изменилось количество денег, выделяемых на соответствующие проекты в архитектуре и в дизайне, широта и возможность использования этих средств — я сейчас имею ввиду уже не только деньги, но еще и материальный, человеческий и эмоциональный ресурсы. Но самое главное — период нулевых совершенно однозначно характеризовался тем, что люди не боялись рисковать, не боялись локальных тактических потерь, не боялись экспериментов. Это не значит, что сегодня в отдельных случаях люди не идут на эксперименты, но в нулевых это была тенденция, когда даже самые простые в плане масштабов деятельности персоналии допускали для себя возможность попробовать что-то отличное от принятого.
Э. К.: Но ведь архитектура — это достаточно прагматичный вид деятельности. Что вы подразумеваете под экспериментом?
В. К.: Право на ошибку. Эксперимент в данном случае относится не только к эксперименту с формой, что очевидно, но к эксперименту со смыслом, с подходом, с вхождением в какую-то неочевидную сторону, с использованием приемов, которые доселе не реализовывались, с использованием новых тем, методик и подходов, не гарантирующих стопроцентный результат. Эксперимент — это попытка пойти по пути, отличному от привычного. Такие настроения сохранялись как тенденция все нулевые, а потом, когда количество возможностей резко увеличилось, люди стали просчитывать каждый шаг, тем самым сокращая эти возможности только до тех, что нужны. Но несмотря на это, некоторым порой и сейчас удается сделать что-то совершенно невероятное, но это скорее исключение из правил.
Э. К.: Но ведь в те времена было гораздо меньше технологических возможностей для эксперимента, а сегодня есть, например, SLT-панели, 3D-печать, лазеры и так далее — то, что еще 20 лет назад казалось фантастикой. Скажите, если бы у вас в те времена был, например, 3D-принтер, каким был бы «Кокон»?
В. К.: Может быть, мы и попробовали бы его напечатать, ведь мы по сути его и напечатали, только кустарным способом, что в наших руках позволило добиться именно того качества, на которое мы и рассчитывать не могли бы, будь у нас 3D-принтер. В этом и разница. Эксперимент означает поиск решения при ограниченности возможностей. И в рамках ограниченности возможностей появляется возможность поиска.
Э. К.: Другими словами, поиск ведет тебя за пределы, определяемые технологиями?
В. К.: Совершенно верно! Нас всегда учили искать возможности достижения результата при отсутствии реальных возможностей. То есть, условно говоря, делать из ничего нечто. И это умение мы сначала вынесли в малую, потом в среднюю и позже в большую форму, используя самые простые и дешевые материалы и конструкции, самые очевидные на первый взгляд решения, компилируя их неожиданным образом. Это позволяло нам компенсировать технологическое отставание. Этот способ работы был очень уместен и достигал максимального результата как раз в то время, потому что было позволено пробовать и ошибаться, по крайней мере, так нам казалось. Сейчас же ты должен выдать безошибочное решение. Сегодня эксперимент, за редким исключением, связанным с уникальными объектами, не очень приветствуется, хотя и не запрещается. Просто в обычной рядовой ситуации на него никто не рассчитывает, он не закладывается ни со стороны авторов, ни со стороны исполнителей, и уж тем более со стороны заказчиков. Экспериментальность нулевых в какой-то степени сравнялась с тем периодом, который был в 20-е годы XX столетия, когда эксперимент был основан на необходимости реализации новой формы. Кроме всего прочего, мы застали отголоски эпохи большого доминирующего стиля. И наблюдать, как эта эпоха уходила, было достаточно интересно. Как раз тогда, когда мы пытались найти какие-то свои оригинальные ходы в творчестве и в профессии, по сути завершился так называемый большой стиль. Сейчас мы все работаем не в рамках какого-то вектора или двух-трех доминирующих векторов, а скорее в формате копошения внутри индивидуальных парадигм.
Э. К.: Но, позвольте, смотря на современную архитектуру и дизайн, я зачастую не могу отличить почерка авторов. Стиль у них точно не «большой», но почти всегда один.
В. К.: Дело в том, что то, о чем вы говорите, это как раз характеристика отсутствия стиля. Стиль — это когда существует определенная эстетическая и профессиональная парадигма. Стилем нашего времени является его отсутствие, как бы банально и парадоксально это ни звучало.
Оранжевые штаны
Э. К.: Стиль! Возьмем, например, ваши оранжевые штаны. Я правильно понимаю, что бытие определяет сознание? (смеется)
В. К.: Бытие определяет сознание настолько, насколько сознание определяет бытие. Не осознавая ценности оранжевых штанов, вам не пришлось бы их покупать. Вообще явление оранжевых штанов в моей жизни, очевидно, не случайно.
Э. К.: Сначала был Кузьмин, а потом оранжевые штаны? Или сначала были оранжевые штаны, а потом появился Кузьмин?
В. К.: Я все же думаю, что оранжевые штаны были мной выбраны, а не они меня нашли. Тут есть некоторая традиционность последовательности. Оранжевыми штаны делает ваше восприятие, а не производство, которое их изобрело. Оранжевые штаны в каком-то смысле символический формат. Купил я их в Шотландии, купил вместе с оранжевым же кожаным ремнем.
Э. К.: В Шотландии? Это там, где все в клеточку?
В. К.: На пятом курсе меня поймал в коридоре МАрхИ друг, Ваня Чувелёв, поймал и сказал: «Вовка, привет, ты в Англию хочешь»? Я говорю: «Хочу». И мы расстались. А через два месяца мне пришло официальное приглашение на практику в Англию, где мне можно было выбрать из пяти городов, среди которых были Лондон, Ньюкасл, Глазго. Этот замечательный и абсолютно щедрый человек отправил меня, Козыря, Соболева и еще четверых человек знакомиться с мировой архитектурной практикой в самый ее центр. Я был очень умный тогда и решил, что если я поеду в Лондон, то я увижу только Лондон, и дальше меня, наверное, не пустят, а если пойду в Глазго, то я точно поеду через Лондон и тогда увижу и Лондон, и Глазго. Так и случилось. Я впервые в жизни ехал в спальном вагоне, в индивидуальном купе с туалетом и ванной. А еще мы ехали все вместе из Москвы, через два Берлина до порта в Голландии, где пересаживались на паром. И вот я оказался в Глазго и работал там в небольшом архитектурном бюро, сотрудники которого меня принимали, везде водили и все показывали. Я почти ни слова не понимал в течение первых полутора-двух недель, потому что это были шотландцы, а они совершенно по-другому говорили, в отличие от того английского, который я изучал в России. Но в силу умения реагировать я всячески делал вид, что все понимаю, и практически всегда попадал. И в какой-то момент начал все понимать. Каждый выходной у меня была возможность куда-то ездить. Я был в Северной Ирландии, был в разных городах Шотландии и в одном из них я увидел эти штаны и их приобрел. Почему? Они были из такой классической парусины, толстенной джинсы, грубой и прочной. И шиты они были так, что даже мне, с моим ограниченным, в общем-то, опытом выбора одежды, на тот момент понравились. И потом, они были совершенно очевидно выдающиеся по своему цвету. С такой яркостью и активностью оранжевого цвета в штанах мне до этого не приходилось сталкиваться.
У меня были оранжевые рубашки, всякие оранжевых мелкие вещицы, но такого масштаба не было. Собственно, поэтому в искусствоведении и считается, что оранжевый путь Кузьмина начался с этого момента (смеется). Если появление этих штанов в моей жизни имеет какое-то значение с вашей точки зрения, то мне кажется, что скорее большее значение имеет факт их ношения в течение длительного времени в дальнейшем. И вот это действительно важно, что они были все-таки совсем не черные, как это принято у большинства архитекторов, а оранжевые. То есть колористическая градация штанов все же для профессионального сообщества имеет некоторое значение, что я доказал личным примером.
Э. К.: На госпремию вы ходили в оранжевых штанах?
В. К.: На госпремию я ходил в красной льняной тройке с гигантским пиджаком. Я, конечно, сильно там выделялся на фоне людей в синем. Госпремия вручалась «Биоинъектору», а мы были в его составе. Все это был какой-то невероятный пафос. Мне пришла правительственная телеграмма. Представляете? И я приперся туда в красном костюме.
Э. К.: В одном интервью вы сказали, что ваш отец так и не понял, за что вы получили госпремию. Прокомментируйте, что он имел в виду?
В. К.: Цитата действительно требует некоторого пояснения. Мой папа был человеком советской эпохи, со всеми ее страхами и, так сказать, битвами. Он не понял, в какой связи моя дизайнерская деятельность находится с государством. То есть факт ее получения за определенные достижения он принял и осознал, и моя фотография с Ельциным всегда стояла у него на полке за стеклом над его рабочим столом дома, а его непонимание заключалось в том, как область дизайна связана с благосостоянием государства и почему ей вдруг уделяется настолько большое внимание, что даже вручается госпремия. Это как раз следствие восприятия проектной культуры как чего-то вспомогательного, которое отчасти сохранилось и поныне, но уже, конечно, не в таких масштабах, как 30 лет назад. Понять, что такое мы сделали и почему за это нужно давать награду на уровне лидера государства, было для него невозможно, потому что в его системе координат награды должны давать ученым за выдающиеся открытия или деятелям искусства за какие-то потрясающие фильмы, симфонии, книги, или передовикам производства. А тут вдруг за какие-то железные ящики, за сейфы. Поменялась система координат. Но тем интереснее и непосредственнее была его реакция, он с удивлением и даже изумлением и недоверием это все воспринимал, но очень гордился.
Э. К.: Вы считаете дизайн делом государственным?
В. К.: Безусловно. И отношение к дизайну в нашем государстве совершенно недостойно величия и масштаба нашего государства.
Э. К.: Дизайн — это политика?
В. К.: Дизайн и архитектура — это материализация тех представлений о добре и зле, которые существуют в государстве.
Э. К.: Спрошу конкретней, «Шапконь» — это политический объект?
В. К.: «Шапконь» — это объект культурный и общественный. Если считать культуру и общество частью политики государства, то в какой-то степени политика существует и в этом объекте. В России отношение к дизайну индифферентно, и дизайн как таковой, включая такие произведения, как «Шапконь», как бы не существует для государства. Если бы государство относилось к дизайну более предметно и цельно, то, возможно, и дизайн был бы другой, и его было бы гораздо больше, и самое главное, он был бы гораздо лучше, потому что во многих странах и во многих культурах отношение к дизайну выливается в новые возможность экономики. Думаю, здесь достаточно ограничиться итальянским примером, и все станет ясно. Исторически с определенного времени итальянская промышленность конкурировала именно за счет дизайна. Промышленность тянула развитие дизайна, а дизайн поднимал и развивал промышленность. В России ничего подобного никогда не было.
Обогащение
Э. К.: Но кураторы-то были всегда?! А эта деятельность, как мне кажется, все же носит политический оттенок. И вы в этом процессе были неоднократно замечены. В чем, на ваш взгляд, заключается роль куратора? Собирательство, навязывание, увязывание или, может быть, проповедование?
В. К.: Я, наверное, покривил бы душой, если бы выбрал что-то одно из того, что вы назвали. У меня есть еще один, компромиссный, вариант — приглашение к участию. Я бы назвал куратора не собирателем и не навязывателем, а дирижером, который иногда бывает собирателем, иногда навязывателем, иногда наблюдателем, а иногда и погонялой. Куратор — это тот случай, когда композитор встает за дирижерский пульт. Но мне надо сделать одну оговорку, кураторами (вместе с Владиславом Савинкиным. — Прим. ред.) в чистом виде мы никогда не выступали. В тех случаях, когда мы выступали как кураторы, мы, как правило, были еще и экспозиционерами. То есть мы всегда совмещали в себе две функции. В значительно большей части мы были только экспозиционерами, а кураторами был кто-то другой. Мы совместители, если хотите.
Э. К.: Но чтобы собирать, вы тоже должны уметь выдавать желаемое за действительное и создавать условия, при которых ваше предложение должно выглядеть привлекательным, независимо от тех минусов, которые оно все равно имеет.
В. К.: В кураторстве всегда есть некая амбивалентность всего. Нельзя просто разделить, что кураторство — это собирательство, или навязывание, или приглашение. Эти определения скорее определяют стиль самого куратора.
Э. К.: «Стена Ольхона» — это для вас кураторский проект или авторский? Ведь в нем вы одновременно и создаете основу для собирательства, и организуете пространство как экспозиционер, и приглашаете к участию проходящих мимо людей, и совмещаете полезное с приятным, и остаетесь при этом автором.
В. К.: Это, в первую очередь, авторский проект, а его дальнейшее существование, возможно, носит кураторский вектор.
Э. К.: В принципе возможно курировать архитекторов?
В. К.: Как я уже сказал, наш опыт специфичный. Проблема заключается в том, что курировать архитекторов можно и нужно. В работе с архитекторами самое главное — понимать свое место, потому как все архитекторы весьма чувствительны к тому формату, в котором ты с ними взаимодействуешь. Кураторство сродни дипломатии или даже разведке. Второе я не очень хорошо знаю, а первое отчасти как-то пытаюсь понять. Нужно находить с каждым автором какой-то свой формат взаимодействия, пытаясь при этом создать для всех равные условия, что кажется практически нереально. Приходится придумывать. Поэтому хороший куратор — это, прежде всего, очень хороший специалист в том сегменте, с которым он работает. В традиционном смысле как куратор я скорее выступаю в образовательных и воспитательных программах.
Э. К.: Кураторство обогащает самого куратора, и что вы приобретаете как художник в такой работе?
В. К.: Конечно, мы учимся у тех, с кем работаем. И это буквальная ситуация, потому что курирование всегда предполагает формат челночного взаимодействия. Ты то доминируешь, то уступаешь, то следуешь и так далее. Любое взаимодействие тебя так или иначе воспитывает. Даже в зрелом возрасте ты все равно продолжаешь открывать что-то новое. Это хороший тон, если ты относишься к тому, что тебе приходится организовывать, как к открытию.
 Стена Ольхона. Автор В. Кузьмин. Хужир, 2020
Стена Ольхона. Автор В. Кузьмин. Хужир, 2020
Поле дизайна
Э. К.: Это ваша первая персональная монография, но, несмотря на это, я бы хотел поговорить про ваших партнеров. С Владиславом Савинкиным вы вместе со студенческой скамьи. Вам комфортнее быть частью коллектива или ни с кем не спорить?
В. К.: Ответ очевиден: я всю жизнь работаю с кем-то. Вместе с небольшим, но надежным коллективом единомышленников, который, конечно, ротируется и меняется со временем, но всегда остается в определенном контексте плюс-минус верным своему направлению и моему представлению о том, каким он должен быть. Я действительно работаю с Владом всю свою сознательную жизнь в разных форматах: тесного или периодического взаимодействия, коллективного или индивидуального, и мы продолжаем эту работу. Сейчас у нас совместная студенческая мастерская, мы делаем совместные выставочные проекты. Я также работаю с разными другими людьми по приглашению и тоже в коллективах и как индивидуальный специалист. Я всегда предпочитаю работать с коллегами вместе, когда это необходимо или возможно. Потому что, во-первых, ситуация в нашей профессии сильно изменилась, она перестала быть делом гениальных одиночек. Одиночка в современной архитектуре уже не существует как рыночный специалист. Только в очень узких сегментах профессии осталась возможность быть демиургом. Сегодня профессия архитектора — коллективная, и делать что-то заметное одному или минимальным составом уже просто не представляется возможным. В дизайне несколько иначе, и тут еще остается возможность индивидуального творчества, но ее все меньше и меньше. Сделать дизайн интерьера, предметный дизайн, экспозиционный дизайн, дизайн коммуникаций — это работа коллективная, требующая множества навыков, которыми я, например, просто не владею, но владея возможностью постановки задач, можно управлять всем этим сложным механизмом. Если говорить о чистом творчестве, скажем, о каких-то инсталляционных или событийных форматах, то тут остается возможность работать индивидуально, но ты в любом случае создаешь процессы, в которые вовлечены многие другие специалисты, и в формате взаимодействия с ними ты неизбежно выступаешь в роли того или иного соавторства.
Э. К.: В партнерской работе вы можете четко определить — это я, это, например, Владислав, это Татьяна (супруга В. Кузьмина. — Прим. ред.), это кто-то еще?
В. К.: Могу. «Поле-Дизайн» делает достаточно много проектов, не во всех из которых я являюсь доминирующей фигурой. Разграничить работы мои и Татьяны очень легко, потому что Татьяна руководит довольно много лет направлением жилого интерьера, которым я практически не занимаюсь. Разграничить наши работы с Владом тоже представляется достаточно несложным. Мы настолько давно взаимодействуем, что проблемы разграничения наших усилий по достижению результата давно уже не стоит. Когда мы ведем проекты совместно, мы равнозначимы. Но когда я работаю как руководитель «Поле-Дизайн», с командой моих коллег, являющихся в формате студии моими подчиненными, я работаю как руководитель проекта: выдаю задания, направляю действия, принимаю решения, и тут, конечно, роли распределены, но это всегда авторский коллектив.
Время продюсеров
Э. К.: В начале нашей беседы вы сказали, что сейчас время перегноя. Раскройте тему гумуса, пожалуйста (смеется). Что вы подразумеваете под этим термином?
В. К.: Я имел ввиду то, что мы живем в эпоху, следующую за эпохой большого стиля, в период переменной. Наше поколение является перегноем профессии. И это не только национальный масштаб. Мы формируем некий питательный слой, из которого вырастет новый большой стиль. Условно говоря, новые леонидовы, мельниковы и татлины. Вырастут они в новой цифровой эпохе. Эти люди уже здесь. А в данный момент, в эту четверть века, все, что мы наблюдаем, — это некий разнонаправленный вектор, я бы даже сказал, копошение. Сегодня нет очевидных лидеров, как это было в эпоху мастеров, нет людей, определяющих тенденции развития, а есть персоналии.
Э. К.: Перегной воспринимается мной как этап, следующий за цветением. Это так?
В. К.: Наше представление о мировой профессиональной среде XX века, в особенности его второй половины, — это прежде всего представление о ярких именах и громких проектах, которые формировали мировую архитектуру. В данный момент, я думаю, вы со мной согласитесь, таких явлений нет. Сегодня время продюсеров. Попробую объяснить на примере кино.
Есть кино режиссерское, мы все хорошо с ним знакомы — это вся вторая половина XX века, а есть кино продюсерское — то, что мы наблюдаем сейчас. Это кино прежде всего ориентировано на целесообразность и грамотность и в буквальном смысле не способствует выпестованию каких-то ярких персонажей. Они, конечно, есть, они пробиваются сквозь весь этот гумус, но они исключения из правил, исключения парадигмы. Это не прекрасный сад с великолепным рядом ярких, равнозначных и качественных растений. Нет. Это скорее луг. Хороший сам по себе луг, который шевелится, подчиняясь законам больших чисел, глобальных тенденций и так далее, и тому подобное, на котором все еще иногда видны яркие цветы, но не они делают эту игру, игру делает вот эта зеленая масса. И вот из этой массы, когда она отцветет, опадет и перегниет, превратившись в гумус, вырастут какие-то новые, фантастической красоты цветы, подозреваю я. Сейчас не время авторов. В кино сейчас время продюсеров, в искусстве — кураторов, в архитектуре — девелоперов. Именно последние назначают, что ценно, а что нет.
Э. К.: То есть это больше ощущение реальности, чем сама реальность?
В. К.: Это не значит, что реальность не может быть именно такой, какой она сегодня предстает, несмотря на то, что сложно представить какого-нибудь Сальвадора Дали, работающего под каким-то куратором.
Я реагирую!
Э. К.: В вашем зеленом поле студентов, которыми вы руководите уже более 20 лет, есть яркие цветы, способные превратить его в цветущий сад? Вы видите в их работах проблески большого стиля?
В. К.: Я сразу сделаю оговорку, что претендовать на роль человека, который в состоянии делать какие-то глобальные обобщения в педагогике, я не могу, но некоторые очевидные тенденции, которые я наблюдаю в педагогической практике, нельзя не отметить. Те, кто учился 10-15 лет назад, сегодня уже находятся в активной фазе. Они формируют новую повестку.
Э. К.: Какую?
В. К.: Прежде всего, назовем это так, взаимодействие с новыми цифровыми технологиями и все, что с этим связано. Сегодня этим людям уже за 30, они находятся в активной фазе, и они плоть от плоти цифровое поколение — в отличие от нас, абсолютно аналоговых, может быть, последних, о которых так можно сказать. Вторая тенденция, которая замечена мной, — это то, что молодая поросль, которая войдет в силу через три-пять лет, в меньшей степени ориентирована на яркий персональный успех, как мне кажется.
Она растет в сознании того, что архитектор — это часть хорошо отлаженной машины. Это не значит, что личные амбиции куда-то уходят, конечно, нет, но у них есть осознание того, что архитектура — это некий процесс, в котором завязано огромное количество составляющих. И, наконец, третье, я могу сказать с абсолютной убежденностью и сожалением, что современная молодежь обладает значительно меньшим общекультурным багажом.
Э. К.: То есть вы в восторге, но вы и расстроены, вы рады, но вы и в недоумении. Тогда что же вы испытываете?
В. К.: Ха-ха, вы смешной, Эдуард. Я реагирую!
Абсолютные значения
Э. К.: Общеизвестный факт: наука — процесс познания. Процесс этот носит эволюционный характер: один ученый что-то изобрел, другой ученый это опроверг или развил, и далее следует практическое применение результатов. А в архитектуре и дизайне это такой же процесс познания, или архитекторы и дизайнеры изобретают каждый раз все заново?
В. К.: Вы берете абсолютные значения. Наверное, ваш тезис правильный, наука именно так и развивается. К архитектуре и дизайну это не имеет отношения. Условный Гери рисует свои кривули, потому что они ему нравятся, а технический прогресс помогает ему их реализовать. Помимо всего прочего, наука — это всегда накапливание данных, которые позволяют сделать обобщение и потом некое предположение, сначала теоретическое, а потом уже подтверждаемое или не подтверждаемое практикой. Архитектура сегодняшняя не имеет явной теоретической базы, а создается как некая искусная форма, основанная исключительно на субъективных желаниях автора. Аналитика нужна в архитектуре в большей степени для того, чтобы обосновать те или иные решения, которые приходят субъективно. Хотя, учитывая, как мы говорили, продюсерский характер, обоснования эти становятся все более и более значимыми, в отличие от работы в художественной парадигме.
Банально будет ответить: «Оранжевый»?
Э. К.: Приближаясь к завершению нашего разговора, я хотел бы попробовать сделать с вами блиц-опрос. Нужно отвечать быстро и коротко. Мне важно знать, какое произведение конкретного автора приходит к вам в голову первым. Согласны?
В. К.: Есть выбор?
Э. К.: Выбора нет. Начнем. Андрей Рублёв…
В. К.: «Троица».
Э. К.: Леонардо да Винчи…
В. К.: «Тайная вечеря».
Э. К.: Казимир Малевич…
В. К.: Квадрат.
Э. К.: Алексей Щусев…
В. К.: Мавзолей, наверное.
Э. К.: Владимир Кузьмин…
В. К.: Негодяй! Вы, Эдуард, негодяй. Банально будет ответить: «Оранжевый»?
Э. К.: Нет, и сейчас даже можно перечислить пять проектов.
В. К.: «Кокон», «Ухо», «Рыба-Кит», «Зиккурат», «Стена Ольхона»…
Э. К.: Я позволил себе такую форму вопроса, потому что данная книга представляет собой своеобразный look-book, по сути набор открыток, фиксирующих факт проекта, но не раскрывающих его целиком. Мы с вами долго определяли, какие проекты должны войти в книгу, а какие нет, ведь, в отличие от «резинового» интернета, в печатном издании все же приходиться делать выбор. И выбор формата издания, как и выбор проектов, долго нами обсуждался и был сделан сознательно. Представим себе, что, например, прошло некоторое время и мы с вами решили сделать новую книгу о вашем творчестве. Вы будете дополнять эту книгу, сделаете новую компиляцию проектов, предварительно отказавшись от тех, что потеряли для вас актуальность, или придумаете еще какой-то вариант?
В. К.: Я буду делать абсолютно новую книгу. Настолько новую, насколько это будет возможно, потому что уже через пять лет все изменится настолько, что, возможно, эта книга покажется нам самим, не говоря уже о читателях, набором петроглифов. Понимаете, просто забавные картинки и все. Изменится форма подачи проектов, изменятся проекты, изменимся мы с вами — все изменится. Мы с вами сейчас этой книгой продолжаем аналоговый мир, а мир уже цифровой. Книга будущего превратится в какую-то другую субстанцию, возможно, мы будем перелистывать воздух у себя перед глазами. А если кому-то понадобится изучать наше творчество, я уверен, это будут редкие маргиналы, книжные черви в понимании XX века, вот и все.
Совершеннейший позавчерашка
Э. К.: Да, вы однозначно аналоговый тип, вот это ваше «перелистывание», хоть и по воздуху, но все же «перелистывание», выдает вас (смеется).
В. К.: Абсолютно. Один очень умный и уважаемый мной критик на мою просьбу написать предисловие к этой книге сказал мне: «Володя! Книжка с моим предисловием будет представлять вас как совершеннейшего позавчерашку! Лучше уж без предисловий, чем с моим»! На мое предположение о его занятости и на мой аргумент в свою защиту о том, что я никогда не был в мейнстриме, не гнался за актуальностью и может быть даже выпадал из времени, этот человек добавил: «Нет, Володя, дело не в моем времени, а времени вообще. Сегодня это уже совсем неправильно, и я не буду этого делать».
Э. К.: Совершеннейший позавчерашка! Это гениально, Владимир! (смеется)
В. К.: Вот-вот! Можете вынести любое из этих двух предложений в заголовок (смеется). Это очень точная формулировка. Я даже горжусь этим. Мне кажется, это высочайшая оценка очень умного человека, знающего, о чем он говорит. Я не перестаю это осмыслять и не вижу в этом ни приговора, ни оценки. «Вчерашнее» мне, наверное, было бы обидно, а вот «позавчерашнее» нет!
Это мой способ кануть в Лету
Э. К.: Как вы относитесь к тому, что многие ваши проекты сегодня уже не имеют реального воплощения? Затоплена «Рыба-Кит», разобран «Зиккурат», на месте «Кокона» сейчас, наверное, офис. Вас это расстраивает или вы считаете это естественным ходом времени?
В. К.: Безусловно, все объекты, которые делаются как временные, не вызывают сожаления, вернее, они в любом случае вызывают сожаление, но к их исчезновению ты готовишься. У произведений временной архитектуры есть заведомо определенный срок жизни. В редких случаях в нашей практике объекты, создаваемые как временные, живут долго. Это удивительный факт нашей работы, и мы к этому даже привыкли. Мы избалованы тем, что наши объекты, как правило, обретают вторую жизнь. И даже когда этого не происходит, мы отчасти надеемся на то, что такая возможность сохраняется. Расстраиваемся мы тогда, когда объект, которому, казалось бы, суждено жить долго, к сожалению, не получает этого времени. Еще печальней, когда объект исчезает у тебя на глазах под воздействием причин, от тебя не зависящих. Большей части того, что мы делали в 90-е и нулевые, уже не существует.
Э. К.: Но они существуют в книге. Может быть, это ваш способ перехода в цифровую эпоху? (смеется)
В. К.: Это мой способ кануть в Лету. Это не одно и то же? Вы можете иронизировать над этим, но это совсем другое, цифровой эпохе не нужна образность, которой мы занимаемся и которая, на мой взгляд, плоть от плоти аналоговая субстанция. Все поменялось, все! Мы не оставляем следов. Можно сказать, что мы, так сказать, исчезаем именно потому, что не хотим навредить. «Зиккурат» жаль, потому что сама по себе конструкция могла бы жить и дольше при заботливом отношении людей, которые, к сожалению, не захотели за ней следить. А с «Рыбой» это вообще какая-то фантастическая и одновременно драматическая история, не трагическая, слава богу. «Рыба-Кит» — это какой-то метафизический объект, при всей материальности его существования. И факт его ухода, его затопления — это какой-то сакральный, символический акт. Так же, как и его появление после 12-летнего исчезновения. Я отказываюсь верить, что она утонула, ушла на дно.
Нас могут обвинить в дешевой актуальности
Э. К.: В интервью Наталье Почечуевой вы сказали: «Можно предположить, что всегда найдется война, после которой возникает современная архитектура». Раскройте, пожалуйста, это высказывание.
В. К.: Нас могут обвинить в дешевой актуальности. Этот разговор был около 20 лет назад, если я не ошибаюсь. Высказывание, наверное, вытащено из контекста, скорее всего, Наталья его и вытащила. Речь идет о современной архитектуре в контексте ХХ века. Современная архитектура как термин относится к временному отрезку после Второй мировой войны. Такие масштабные события всегда являлись своего рода катализаторами возникновения «современности».
Э. К.: Можно ли привязать архитектуру вообще к таким трагическим событиям, как война?
В. К.: Да. Война всегда представляет собой катастрофические последствия для материального мира. А архитектура — это, в том числе, и труд предшествующих поколений, это дома, села, города, электростанции, заводы и так далее. И вот их нет, и их надо строить заново. Страшно об этом говорить, но появляется работа для архитекторов, много работы.
В этом, возможно, чудовищность нашей профессии, она, с одной стороны, создает то, что позволяет людям оформлять свои представления о будущем, а с другой стороны — создает это из обломков, возникших по вине тех же людей, что строили это будущее. В текущем моменте времени я хочу сказать все-таки еще одну мысль, как мне кажется, довольно существенную. В этой фразе есть понятие более важное, чем просто война и просто архитектура. Война есть всегда, неважно, буквальная война или война идеологическая, или война культурная, после которой всегда возникает новая архитектура. Архитектура со-временем. Современная архитектура — это архитектура, которая живет и рождается в конкретный момент времен. После войны, например.
Это гениально, Владимир!
Э. К.: Может быть, вы хотите задать какие-то вопросы мне?
В. К.: Эдуард, зачем вам это все? Вот объясните мне, зачем вы издаете книгу недоархитектора, недодизайнера и вообще какого-то шаромыжника-перегноиста? (смеется)
Э. К.: Вы себе сейчас льстите, Владимир! Я делаю это тупо из-за денег (смеется).
В. К.: Да каких денег! Что вы мне рассказываете! А вот, кстати, хорошо, раз вы сами подставились, скажите мне, пожалуйста, на издании книг можно заработать? Может, я не тем занимаюсь? (смеется)
Э. К.: На издании книг заработать нельзя, можно заработать только на их продаже. У издателя, как правило, одни затраты: гонорары, материалы, типография и так далее. А вот когда книга уже готова, в игру вступает продавец книг и его маржа… Мне, кстати, нравится эта ваша цифровая эпоха. Она благоволит книгоиздателю, у которого как минимум снижаются затраты на материалы и печать, и не благоволит книгопродавцу, потому что его прибыль значительно уменьшается в связи со снижением общей цены готового продукта. Мы сейчас пробуем себя в продаже электронных изданий и с удивлением и радостью обнаружили, что журнал TATLIN Mono «Поле-Дизайн», выпущенный в 2011 году, покупают и сегодня. Не так часто, но покупают этих «совершеннейших позавчерашек» (смеется). А вы говорите, они никому не нужны. Мы даже, благодаря этой цифровой эпохе, можем составить для вас список купивших.
В. К.: Это гениально, Эдуард! Соберите мне, пожалуйста, контакты этих людей. Я просто каждому из них напишу письмо. Мне будет это приятно, думаю, как и им. Ведь отношения между людьми — самое главное.
Обложка статьи: Владимир Кузьмин с Татьяной и Эдуардом Кубенскими на презентации своей работы «Мыслекало». Москва, 2018
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: