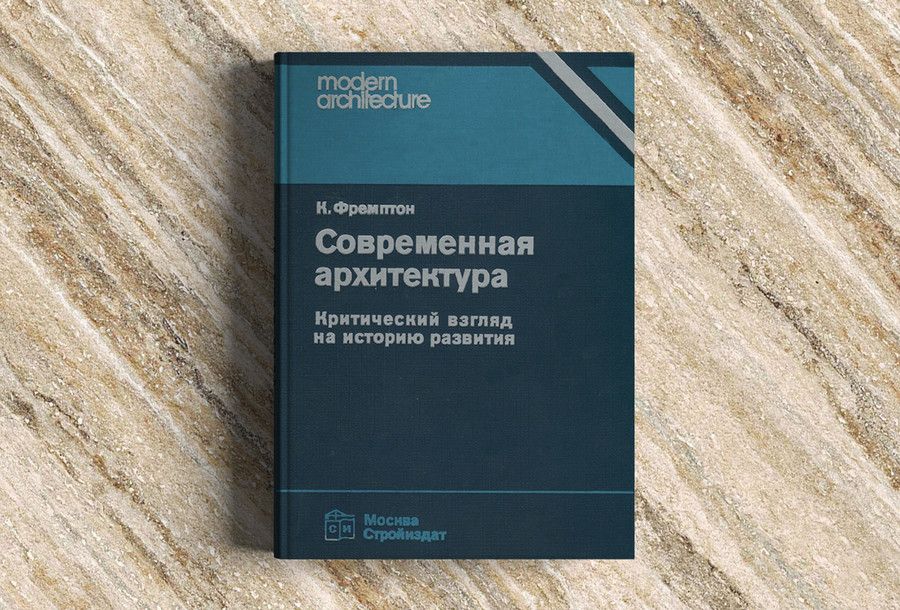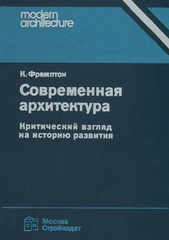- Текст:Кеннет Фремптон3 февраля 2021
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
Концепция местной, или национальной
культуры является парадоксальным предложением не только из-за сегодняшнего
очевидного противопоставления «коренной» культуры и всеобщей цивилизации, но
также и потому, что на внутреннее развитие любой цивилизации, как древней, так
и современной, влияет взаимообмен с другими культурами. Как указывает философ
Поль Рикёр, сегодня в большей степени, чем когда-либо, региональную или
национальную культуру следует считать местным проявлением «мировой культуры».
Безусловно, не случайно, что это парадоксальное предположение возникает в то
время, когда всеобщая модернизация все глубже подрывает все формы традиционной,
основанной на сельском хозяйстве самобытной культуры. С точки зрения «критической
теории» (см. «Введение»), мы должны рассматривать региональную культуру не как
некую относительно неизменную данность, но скорее как нечто, что сегодня
развивают как-то застенчиво. Рикёр считает, что существование любого рода
самобытной культуры в будущем будет, в конце концов, зависеть от нашей
способности к созданию жизненных форм региональной культуры при одновременном
усвоении влияний извне как на уровне культуры, так и на уровне цивилизации.
Подобный процесс ассимиляции и интерпретации кажется очевидным в творчестве датского мастера Йорна Утцона и прежде всего в церкви Багсверд, построенной им в пригороде Копенгагена в 1976 году. В этом здании предварительно изготовленные элементы заполнения, имеющие стандартные размеры, с особой выразительностью вмонтированы в железобетонные своды, которые перекрывают главные общественные объемы. С первого взгляда эта комбинация модульных сборных элементов и деталей, замоноличенных на месте, может показаться всего лишь интеграцией всех имеющихся сейчас в нашем распоряжении форм работы с бетоном, однако метод объединения этих форм отличается ссылками на противоположные ценности.

Церковь в Багсверде, Дания. 1976 год. Архитектор Йорн Утцон. Фото: Archipicture
С одной стороны, предварительно изготовленные модульные сборные элементы не только соответствуют ценностям всеобщей цивилизации, но также и «заявляют» о ее способности к стандартизации, тогда как монолитные своды-оболочки — исключительные по своей изобретательности конструкции, возведенные на уникальном участке. В свете высказываний Рикера можно считать, что сборные элементы утверждают нормы всеобщей цивилизации, а своды — ценности самобытной культуры. Эти разные формы работы с бетоном можно также истолковать как противопоставление рациональности нормативной техники иррациональности символической конструкции.
Другой «диалог» звучит, как только мы переходим от экономического оптимума сборной конструкции ограждения (будь то бетонные панели или патентованное остекление крыши) к далекому от оптимума каркасу и своду, перекрывающему неф. Такое решение свода — относительно неэкономичная модель конструкции по сравнению, скажем, со стальными фермами — умышленно выбрано из-за его символического смысла. В западной культуре свод обозначает священность. И вместе с тем свод такой конфигурации едва ли можно считать западным. Единственный прецедент такого сечения в религиозном контексте встречается лишь на Востоке — это крыша китайской пагоды, о чем Утцон писал в своем эссе «Платформы и плоскогорья. Мысли датского архитектора» (1962).

Церковь в Багсверде, Дания. 1976 год. Архитектор Йорн Утцон. Фото: Archipicture
Незаметные «двойные» намеки, которыми изобилует эта изогнутая бетонная крыша, заключаются не только в мнимой своенравности интерпретации восточной формы балки и в западной технологии бетона; хотя размеры главного свода над нефом и верхний свет и наводят на мысль о присутствии божества, однако это сделано таким образом, чтобы предотвратить исключительно западное или восточное прочтение формы, которым утверждается это ощущение. Подобная двойная интерпретация («запад-восток») допустима при рассмотрении деревянных оконных переплетов и обшитых досками внутренних стен, которые кажутся ссылкой на северную традицию культовой архитектуры и на украшенные орнаментом традиционные деревянные элементы китайской и японской архитектуры. По-видимому, за этими процедурами разрушения и повторного синтеза скрыты следующие намерения: во-первых, оживить в определенном смысле обесцененные западные формы с помощью восточной трактовки их сущностной природы; во-вторых, указать на секуляризацию учреждений, представляемых этими формами. Это — явно более подходящий способ «подачи» церкви в эпоху обмирщения, когда существует риск вырождения традиционной культовой иконографии в китч.

Церковь в Багсверде, Дания. 1976 год. Архитектор Йорн Утцон. Фото: Wikipedia
Однако особенности церкви Багсверд, связанные с местом, которое она занимает во времени и пространстве, не исчерпываются лишь оживлением западных элементов с помощью восточных очертаний и наоборот. Утцон также придал ей вид сарая, использовав сельскохозяйственную метафору, чтобы сообщить религиозному учреждению образ гражданского здания. Однако эта несколько загадочная метафора — сочетание религии с сельскохозяйственной культурой — может заиграть по прошествии какого-то времени: когда окружающие здания деревья разрастутся, церковь обретет положенные ей границы. Территория, обозначенная этим растительным покровом, без сомнения, в будущем будет способствовать прочтению здания уже не как сарая, но как храма.
Примером ясно выраженного антицентристского регионализма было каталонское национальное движение, которое вновь возникло с образованием «Группы Р» в Барселоне (1951). Эта группа, которой руководили X.М. Сострес и Ориоль Боигас, с самого начала оказалась в сложной культурной ситуации. С одной стороны, она была обязана возродить антифашистские ценности рационализма и методику GАТЕРАС (довоенное испанское крыло СIАМ), с другой — ее члены осознавали политическую ответственность за создание реалистического регионализма, пригодного для народности в целом. Эту двуединую программу впервые публично объявил Боигас в своем эссе «Возможности архитектуры Барселоны», опубликованном в 1951 году. Различные культурные импульсы, под влиянием которых складывался этот разнородный регионализм, подтверждали безусловно гибридную природу современной региональной культуры. Прежде всего, следует назвать каталонскую традицию строительства из кирпича, которая идет от модернизма, затем — влияние творчества Нейтры и неопластицизм (несомненно, стимулированный работой Бруно Дзеви «Поэтика неопластической архитектуры», опубликованной в 1953 году).

Дом Борсалино в Алессандрии, Италия. 1951–1953 года. Архитектор Игнацио Гарделла. Фото: Aplust
Далее отметим влияние неореализма итальянского архитектора Игнацио Гарделлы, который использовал традиционные ставни, узкие окна и широкие выступающие карнизы в своем доме Борсалино в Алессандрии, Италия (1951–1953). Бельгийский новый брутализм оказал особенное воздействие на работы Маккея, Боигаса и Марторелла (см. построенный ими жилой дом на бульваре Бонанова в Барселоне, 1973).
Творчество барселонского архитектора X.А. Кодерча можно считать типично регионалистическим, поскольку оно вплоть до последнего времени колебалось между современным строительством из кирпича в средиземноморском духе, впервые сформулированным в его восьмиэтажном жилом блоке ИСМ, построенном в Барселоне на бульваре Насиональ в 1951 году (это здание, как и дом Борсалино, традиционно артикулировано ставнями на всю высоту и тонкими выступающими карнизами), и авангардистской неопластической мисовской манерой, примером которой служит композиция его дома Катасус, возведенного в Ситжесе в 1956 году.
Возможно, более свежие примеры отзвуков каталонского регионализма наиболее очевидны в работе Рикардо Бофилла и его «Архитектурной мастерской». Если жилой дом на ул. Никарагуа (1964), построенный Бофиллом, демонстрирует родство с интерпретированным «языком» Кодерча, то «Архитектурная мастерская» в конце 1960-х годов приняла открыто «гезамткунстверковский» подход. Построенный ее архитекторами в Кальпе в 1967 году комплекс Ксанаду — настоящий разгул китчевого романтизма. Одержимость образами достигла своего апофеоза в их героическом, но показном, облицованном плитками комплексе «Уолден 7» в Сен-Жуст-Десверн (Барселона, 1970–1975).

Уолден 7 в Сен-Жуст-Десверн, Барселона, Испания. 1975 год. Архитекторы Рикардо Бофилл и «Архитектурная мастерская». Фото: Architime
Это 12-этажное здание с плохо освещаемыми жилыми комнатами, крошечными балконами и уже облетающей плиткой как бы символизирует ту несчастливую границу, за которой изначально критический импульс выродился во вполне фотогеничную декорацию. В конечном итоге, несмотря на легкую дань уважения к Гауди, «Уолден 7» — типичный пример архитектуры, служащей обольщению масс. Это архитектура нарциссизма, поскольку формальная риторика адресуется к высокому образцу и к мистике «пламенеющей» личности Бофилла. Гедоническая утопия Средиземноморья, на воплощение которой претендовал «Уолден 7», при ближайшем рассмотрении разрушается и, прежде всего, это проявляется в оборудовании плоской крыши, так как в данном случае ее потенциально эстетизированная среда не была приспособлена для использования (ср. марсельскую «жилую единицу» Ле Корбюзье).
Ничто не может быть дальше от намерений Бофилла, чем архитектура португальского мастера Алвару Сиза Виейры, чье творчество, начало которого ознаменовано сооружением плавательного бассейна в Кинта-ди-Консейсан-Матузиньюс (1958–1965), было совершенно не фотогеничным. Это следует не только из фрагментарно неуловимой природы опубликованных образов, но также и из текста, написанного им в 1979 году:
«Большинство моих работ никогда не были опубликованы, некоторые из моих проектов осуществлены лишь частично, другие глубоко изменены или уже разрушены. Все только предполагалось. Архитектурное предложение, цели которого глубоки... которое является чем-то большим, чем пассивная материализация, отказывается упрощать эту самую реальность, анализируя каждый ее аспект один за другим. Такое предложение не может воплотиться в зафиксированном образе, не может следовать линейной эволюции... Каждый проект должен с предельной строгостью отражать вполне определенное состояние изменяющегося образа со всеми его тенями, и чем глубже вы осознаете это движение реальности, тем чище будет ваш проект... Возможно, именно поэтому только второстепенные работы (тихое жилище, далекий домик для отдыха) остаются такими, какими они были изначально запроектированы. Однако что-то все же сохраняется. Какие-то частицы встречаются тут и там, внутри нас самих, возможно, «усыновленные» кем-либо, оставляя метки на людях и на пространстве, растворяясь в процессе всеобщего изменения».
Из-за этой сверхвосприимчивости к изменению движущейся и все же специфической реальности творчество Сиза представляется нам имеющим более глубокие корни, чем эклектичные тенденции барселонской школы. Вслед за Аалто Сиза увязывает свои здания со спецификой топографии и с фактурой местной городской ткани, поэтому его работы хорошо вписываются в городские, природные и морские ландшафты района Порту. Другими важными факторами являются его уважение к местному материалу, ремесленным произведениям и особенностям местного освещения — уважение, которое поддерживается без сентиментального отказа от рациональной формы и современной техники. Как и ратуша Сяйнятсало Аалто, все работы Сиза деликатно вписаны в топографию участков. Его подход скорее осязателен и тектоничен, чем визуален и графичен, что подтверждается целым рядом сооружений — от дома Береш в Повоа-ду-Варзин (1973—1976) до жилого комплекса Буса в Порту (1973—1977). Даже его небольшие городские здания, из которых лучшим, возможно, является отделение банка Пинту, построенное в Оливейра-ди-Аземеинш в 1974 году, увязаны с топографией местности.

Общественный центр на острове Сайнатсало, Финляндия. 1952 год. Архитектор Алвар Аалто. Фото: AD Magazine
По-видимому, творчество обосновавшегося в Нью-Йорке австрийского архитектора Реймунда Абрахама вдохновляется подобными соображениями, поскольку этот архитектор всегда подчеркивал важность создания места и топографические аспекты строительной формы. «Дом с тремя стенами» (1972) и «Дом с цветочными стенами» (1973) — типичные примеры его творчества начала 1970-х годов, где уникальный образ, выдвинутый в проекте, вместе с тем утверждает неизбежную материальность здания. Интерес к тектонической форме и к ее возможностям изменять поверхность земли прослеживается и в последних проектах Абрахама, выполненных им для Международной строительной выставки в Западном Берлине, и прежде всего, в недавно созданном проекте для Южного Фридрихштадта (1981).
Такое же «осязательное» отношение отличает творчество ветерана мексиканской архитектуры Луиса Баррагана, чьи лучшие дома (многие из них были возведены в пригороде Мехико — районе Педрегаль) принимают форму, обусловленную участком. В равной мере будучи и ландшафтным архитектором, и архитектором-объемщиком, Барраган всегда тяготел к чувственной и связанной с землей архитектуре, обогащенной ограждениями, стелами, фонтанами и водными путями, архитектуре, размешенной среди вулканических скал и пышной растительности, архитектуре, которая опосредованно связана с мексиканской усадьбой.

Дом Антонио Галвеса в Мехико, Мексика. 1955 год. Архитектор Луис Барраган. Фото: Йоханнес Мюллер
Говоря о чувстве мифа и истоках творчества Баррагана, достаточно процитировать его воспоминания об апокрифической деревне его юности:
«Мои ранние детские воспоминания связаны с ранчо близ деревни Масамитла, которым владела моя семья. Это была деревня с холмами, на которых размещались дома с черепичными крышами и огромными карнизами — они должны были защищать прохожих от сильных дождей, выпадающих в этом районе. Даже цвет земли был необычным, поскольку это была красная земля. В этой деревне система водоснабжения была сооружена из огромных, выдолбленных в форме желобов бревен, которые покоились на деревянных рогатинах высотой 5 м. Акведук пересекал город, доходя до внутренних двориков-патио, где находились большие каменные фонтаны, размещались сараи, в которых вместе с коронами содержались и цыплята. Снаружи к железным кольцам привязывали лошадей. Конечно, из этих покрытых мхом деревянных желобов повсюду сочилась вода, что придавало облику деревни нечто сказочное. Нет, фотографий нет, у меня есть только воспоминания».
Безусловно, эти воспоминания ожили в памяти Баррагана благодаря его постоянному интересу к исламской архитектуре. Подобные чувства и заботы очевидны в его выступлении против уничтожения интимности в современном мире и в его критике того неуловимого разрушения природы, которым сопровождалось послевоенное развитие цивилизации:
«С каждым днем жизнь становится все более публичной. Радио, телевидение, телефон — все это разрушает сферу частной жизни, уединенность. Поэтому сады следует огораживать, а не оставлять их открытыми для всеобщего обозрения... Архитекторы забывают о потребности человеческого существа в полусвете — том особом сорте света, который навевает покой в жилых комнатах и спальнях. Около половины того количества стекла, которое используется во многих зданиях — как жилых, так и конторских — следовало бы убрать, чтобы обеспечить то качество освещения, которое позволяет нам жить и работать более сосредоточенно. До машинной эры даже в центре больших городов Природа была постоянным спутником каждого... Сейчас ситуация совершенно иная. Человек не встретится с Природой, даже если он выедет из города для общения с ней. Зажатый в блестящем автомобиле, его дух, отмеченный печатью мира, который создал автомобиль, и внутри Природы остается инородным телом. Чтобы заглушить голос Природы, достаточно доски объявлений. Природа превращается в объедки Природы, человек — в объедки человека».
К 1947 году, построив свой первый дом и мастерскую с внутренним двориком в Такубайе, федеральный округ Мехико, Барраган уже отошел от синтаксиса Международного стиля. И все же в своем творчестве он всегда оставался верным той абстрактной форме, которая характеризует искусство нашей эпохи.
Склонность Баррагана к созданию больших, почти непостижимых абстрактных плоскостей, вписанных в ландшафт, возможно, достигла своей наибольшей интенсивности в созданных им садах для жилых районов Лос-Арболеадас (1958—1961) и Лос-Клубес (1961 —1964), а также в монументе — группе башен на шоссе, ведущих в город-спутник Мехико, которые он спроектировал вместе с Матиасом Гёрицем в 1957 году.
Конечно, регионализм заявил о себе и в других районах Америки: в Бразилии 1940-х годов, — в раннем творчестве Оскара Нимейера и Афонсу Рейди; в Аргентине — в работе Амансио Вильямса, прежде всего в «Доме-мосте», спроектированном Вильямсом для Мар-дель-Плата в 1943—1945-х годах, и, возможно, в здании «Банк оф Лондон энд Саут Америка», построенном Клориндо Теста в Буэнос-Айресе (1959); в Венесуэле — в университетском городке, возведенном по проектам Карлоса Рауля Вильянуэва в 1945—1960-х годах; на западном побережье США, прежде всего в Лос-Анджелесе конца 1920-х годов — в творчестве Нейтры, Шиндлера, Вебера и Джилла, а затем в работах «Школы залива», основанной Уильмом Уэрстером, и в работах фирмы «Харвелл-Хамилтон-Харрис» в шт. Южная Каролина. Возможно, никто не выразил идею критического регионализма более сильно, чем Харрис в послании «Регионализм и национализм» (1954), адресованном Северо-Западному региональному совету Американского института архитекторов в Юджине, шт. Орегон. В нем он впервые удачно сформулировал различие между ограниченным и освобождающим регионализмом:
«Регионализму ограничений противостоит другой тип регионализма — регионализм освобождения. Это — демонстрация региона, которая особенно гармонирует с новым мышлением времени. Мы называем такую демонстрацию "региональной" только потому, что она существует исключительно в данном районе. Это дух региона, глужбе, чем обычно, осознанный и более чем обычно, свободный. Его сила заключается в том, что он имеет значимость для мира, находящегося за пределами региона. Чтобы выразить регионализм в архитектуре, необходимо строить и, возможно, очень много строить — одновременно. Только в этом случае образность новой архитектуры смолил стать достаточно обычной, достаточно варьирующейся и достаточно сильной, чтобы покорить воображение людей и создать дружественный климат для развития новой школы проектирования.
Сан-Франциско существовал для Мейбека, Пасадена — для "Грин и Грин". Никто из них не смог бы завершить того, что он начал, в любом другом месте и в любое другое время. Каждый использовал местные материалы, но суть творчества определяется не строительным материалом.
...Регион может генерировать идеи. Регион
может принимать идеи. Воображение и разум необходимы в обоих случаях. В
Калифорнии в конце 1920–1930-х годов современные европейские идеи слились с
развивавшимся тогда регионализмом. С другой стороны, в Новой Англии европейский
модернизм встретился с суровым и ограниченным регионализмом, сначала
сопротивлявшимся, а затем сдавшимся. Новая Англия приняла европейский модернизм
в целом, так как ее собственный регионализм свелся к набору ограничений».
Читайте продолжение статьи в книге Кеннета Фремптона «Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития».
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: