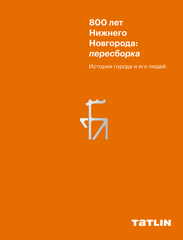Богатая история города Нижний Новгород, который построен на слиянии двух рек Волги и Оки, ежегодно притягивает несколько миллионов туристов. Сюда едут за интересной архитектурой, красивыми пейзажами и удивительными историями судеб людей. Публикуем эссе архитектурного критика Оуэна Хэзерли из нашей книги «800 лет Нижнего Новгорода: пересборка. Истории города и его людей», в котором отражен взгляд иностранца на город.
Конвейеры и золотые купола. Взгляд иностранца на закрытый город

«Ты в плену иллюзий, Пусинка, хотя в отношении России легкомыслие тебе не свойственно… но ты намеренно все романтизируешь. Не знаю, как ты все это совместишь, когда там окажешься. Ты должна понимать, что между тем, что ты себе напридумывала, и тем, что есть на самом деле, очень мало общего. Ты думаешь, что будешь кататься по деревням в старой телеге-долгушке, или ездить по городам с золотыми куполами в чичиковской бричке, едва натягивая поводья, потому что у тебя будет подорожная грамота, это что-то вроде лесепассе, которое дает право поменять лошадей на станции. Так вот что я тебе скажу: только с такой подорожной и бродить по просторам твоего воображения. Сейчас в ходу визы, но с ними ты увидишь только то, что существует сегодня. И это совсем не похоже на то, что ты воображаешь, мисс»1.
Нижний Новгород — один из немногих по-настоящему больших городов, если ехать из Москвы в сторону Урала; в соответствии с нынешними определениями Европы он все еще является ее частью, хотя ранее границу проводили по Волге, что отнесло бы его к Азии. Центр города лежит на возвышенности у слияния Волги и Оки; с архитектурной точки зрения, это наиподлиннейший русский стиль. Это не просвещенное, тщательно вымеренное «окно в Европу», как Петербург, не мультикультурный мегаполис, как Москва, но не похож он и на такие почти полностью советские современные города, как третий и четвертый по величине Новосибирск и Екатеринбург. Нижний не только находится примерно в центре России, но и в центре самой идеи России, русскости.
«Россия не Европа», — обычно заявляют либералы в Центральной Европе2, но именно это и манит туда — в частности, в Нижний Новгород — некоторых путешественников. В «Путешествие в воображаемое» (1968), блистательной автобиографической повести английской писательницы Лэсли Бланш о маниакальной русофилии, Нижний Новгород — она именует его именно так, хотя тогда он назывался Горьким, — причислен к экзотичнейшим русским городам. Соблазняющий молодую Бланш «путешественник» предлагает ей представить, сидя в доме на окраине Лондона, такую фантастическую географию: «Мы на ярмарке в Нижнем Новгороде… Мы почетные гости Чингисхана на празднике почитания знамен… Потом мы едем в Сибирь… Вижу: мы в санях мчимся сквозь лес, а за нами гонятся волки»3. Таким, пишет Бланш, стал «пейзаж ее воображения, пейзаж моих сердечных мук»4, мир разноцветных или золотых куполов, шатровых крыш, снегов, саней и Волги.
Нижний Новгород можно рассматривать как место, которое не избавилось от этого экзотического имиджа, при этом перестраиваясь на протяжении всего ХХ века в тотально модернистский город, где тон задают массовое производство, авангардная архитектура и радикальное городское планирование. При том, что город много лет был закрыт для иностранцев, этот процесс последовательно фиксировали несколько поколений наблюдателей из Западной Европы: кто-то, как Бланш, приезжал сюда в поисках вечной русской экзотики, а кто-то — чтобы найти то, что считалось плановым социалистическим промышленным будущим. В этом эссе мы пройдем из старого города, бесконечно русский пейзаж которого, как ни старались, не смогли уничтожить поколения советских модернистов и постсоветских постмодернистов, в Автозаводский район, город-в-городе, чрезвычайно далекий от мира золотых куполов и саней. Мы увидим, как самые разные иностранцы — разумеется, писатели (в том числе и автор этих строк), но также представители профсоюзов, активисты, промышленники — описывают город, оказавшийся полем битвы между традицией и модернизмом.
Модернизация: из Кремля и дальше
Рассказ уместно начать с Нижегородского кремля, потому что в его стенах можно найти все: от наполовину придуманной традиционной архитектуры святой Руси до самого радикального конструктивизма. Эта цитадель начала строиться в XIV веке, но то, что мы видим сегодня, — результат нового строительства, которым руководил итальянский архитектор Пьетро Франческо в начале XVI века, когда каменными стенами нужно было усилить город во время войн с Казанским ханством и прочими соседями. Пока все типично для Европы позднего Средневековья, вплоть до использования услуг итальянцев в таких сложных делах, как архитектура и градостроительство. Башни Московского кремля (тоже спроектированного итальянцами) известны своими экзотическими формами, что часто связывают с татарским влиянием; Нижегородский же кремль более грузный и приземистый, но и в его облике есть что-то, чего не найти в Западной Европе.
Нижегородский кремль соединяет укрепления верхнего и нижнего города — стены из красного кирпича высятся на крутом холме. Некоторые проездные башни, особенно увенчанная треугольной крышей тяжелая и декоративная Дмитриевская — это полет фантазии, в котором есть что-то от военных укреплений, что-то флорентийское, что-то исламское, но на самом деле все это самоэкзотизация. Они выглядят так маняще, потому что в конце XIX века их перестроили в «неорусском стиле»; Дмитриевскую башню, в частности, переделали тогда под музей. Сегодня в стенах Кремля осталось не так много дореволюционных строений, если не считать Архангельский собор XVII века. В отличие от тщательно сохранявшегося Московского кремля (нарком просвещения Луначарский грозился уйти в отставку, узнав о повреждениях Кремля в ходе городских боев в 1917 году), Нижегородский кремль — это крепость средневекового княжества, впоследствии обнаружившая себя в советском областном центре, а потом доставшаяся в наследство олигархическому госкапитализму современной России.
Несмотря на свою историческую важность, в советское время Нижний Новгород не был туристической достопримечательностью, не входил в составленную «Интуристом» экскурсию по Золотому кольцу России, а в издательстве «Прогресс» не выходило соответствующего путеводителя в переводе на основные мировые языки. Главным образом это связано с тем, что еще в конце XIX столетия город стал промышленным центром, а в СССР приобрел ключевое значение в машиностроении — стал советским Детройтом или, скорее, Турином. В 1959-м, из-за разрабатывавшихся здесь военно-инженерных проектов, Горький стал «закрытым городом». Сахаров отправился в свою знаменитую ссылку именно в Горький. Человеку, не знакомому с русскими реалиями, ссылка в Горький могла показаться чем-то страшным, хотя, если брать его относительную удаленность от столицы, это примерно как ссылка в Ковентри. Возможно, все эти обстоятельства объясняют, почему советские власти настолько не заботило состояние Кремля: туристы здесь все равно не предполагались, а сохранение памятника во всей его целостности исключительно для горьковчан первоочередной задачей стать не могло. Города делились на туристические и промышленные, и лишь таким метрополиям, как Ленинград, Москва и Киев, позволялось быть и тем и другим. В Горький, находившийся довольно далеко от границ России, иностранцев без специального разрешения вообще не пускали.
При большевиках первым в ходе реконструкции Кремля был снесен Спасо-Преображенский собор XIX века, на его месте в 1931 году построили конструктивистский Дом Советов. Увидеть советское авангардное здание в древнерусской крепости — редкое удовольствие; так эпоха новой рациональности и технократии силой утверждала свой нулевой год на руинах отсталой, суеверной, автократичной Московии. Серое бетонное здание на холме среди сосен напоминает в плане особенно любимую конструктивистами абстрактную вертушку. Закругленный объем с ленточным остеклением над входом опирается на колоннаду в духе Ле Корбюзье. Здание источает ясность и уверенность, не уступая в радикальности любой европейской и американской постройке того же периода. Однако другие советские постройки в Кремле куда менее интересны — в основном это грузная официальная архитектура 1950-х и 1970-х.
Есть там и великолепный художественный музей с первоклассной коллекцией абстрактной живописи предреволюционного периода и первых лет советской власти — Малевич, Попова и другие. Сотрудники этого музея были настолько уверены, что посетителей не будет, что, когда мы с подругой зашли туда в 2014 году, одна из смотрительниц лежала на полу, рисуя цветочки и зайчиков. Неприятие модернизма, сокрушившего стеклом и бетоном золотые купола Спасо-Преображенского собора, как видим, остается нормой. Музей делает акцент на своей коллекции Бориса Кустодиева: зал с его сочными, насыщенными цветом портретами купцов и их пышных жен в прелестных, несколько экзотичных городских пейзажах — главная точка притяжения для публики. Тем не менее, в другом конце Кремля находится Вечный огонь и мемориал Великой Отечественной войны с интересным изображением двух бойцов в «суровом стиле» хрущевской эпохи, экспрессивном и современном. Во время войны Горький оставался глубоко в тылу, но и его бомбила немецкая авиация, город пострадал очень сильно. С мемориала открывается величественный вид на обе реки: Оку, берега которой застроены домами и заводами, и Волгу — ее берег совершенно нетронут, видны уходящие за горизонт болота и леса.
Верхняя часть Нижнего Новгорода — обычный русско-советский город. Пешеходная Большая Покровская улица выделяется недурными примерами архитектуры ХХ века разных стилей — немного модерна, немного сталинского классицизма, немного сдержанного конструктивизма да неорусский Госбанк с шатрами и воздушными лестницами из эпохи национального строительства, когда вся Европа перешла вдруг на местные диалекты, отказавшись от обычного интернационального классицизма (в политическом отношении здание, впрочем, не выдержано: на фронтоне красуется имперский двуглавый орел, шпиль же увенчан позолоченным советским гербом с серпом и молотом). Позднесоветская эра тоже увлекалась такими экспериментами: фасад Академического театра кукол, пристроенный в 1980-е к боковой стене классического дворца, украшен шпилями в абстрактно-русском стиле и скульптурами трубачей и марионеток; стоящие рядом «Художественные промыслы» из интернационального стекла и бетона украшены мозаикой с народными мотивами — петухи, солнышко, львы. На фоне этих нелепых, но забавных заигрываний с местным стилем постройки более официальные — вроде классицистского здания КГБ/ФСБ из красного песчаника или постконструктивистского Дома связи начала 1930-х, сочетающего модернистские формы и элементы классицизма в деталях, — выглядят скучно.
Если пройти по боковым улочкам чуть дальше, оказываешься в городе, застроенном одноэтажными деревянными домиками. Поскольку некоторые из них не совсем запущенны благодаря своей исторической ценности, плакать, глядя на них, не хочется. Один дом особенно ухожен, так как в нем располагается один из музеев Максима Горького, остальные разрушаются не без изящества; в каком-то из них разместился секс-шоп — соответствующая вывеска небрежно прибита прямо к бревну на срубе. Особенно такая обветшалость бросается в глаза на фоне Большой Покровской — благополучной современной улицы с суши-барами, магазинами и кафе, на которой, как дань прошлому, сохранен, кажется, лишь один старый фасад — у здания, где некогда располагалась граверная мастерская отца Якова Свердлова, большевистского лидера, который, по некоторым данным, в 1918 году отдал приказ о расстреле царской семьи. Заканчивается эта пешеходная улица площадью, на которой стоит гигантский памятник работы Веры Мухиной — высокий, худощавый, горделивый Максим Горький, — а также расположена единственная станция метро в старом городе, на правом берегу Оки. Когда я там был, она только-только открылась, — до этого Горьковское метро, построенное в 1980-е и заброшенное в 1990-е, обслуживало только промышленный запад Нижнего Новгорода.
В нижнюю часть центра города на метро не попасть, лучше спуститься по Чкаловской лестнице, ведущей от Кремля к Волге. Эта городская достопримечательность создавалась между 1943 и 1949 годами с использованием труда немецких военнопленных, и стоимость ее была запредельной даже по тем временам. Лестница идет от памятника Чкалову — уроженцу Нижегородской губернии, совершившему первый беспосадочный перелет из Москвы в США, — затем спускается вниз тремя крутыми изогнутыми пролетами, разделенными между собой площадками с обелисками и скамейками, где можно передохнуть при подъеме. Она в три раза выше Потёмкинской лестницы в Одессе, то есть, судя по всему, это одна из самых длинных городских лестниц в Европе. Внизу взгляду открывается вид на леса на другом берегу, но если свернуть влево, окажешься в милом, хорошо сохранившемся нижнем городе. Кое-где встречаются типичные советские здания — например, Речной вокзал, — но по большей части там изящная классицистская застройка, этакий Петербург в миниатюре. Есть тут и хипстерский бар, где подают затейливую еду и официанты чрезвычайно радушны к иностранцам. Но особенным нижний город делают церкви — таких к западу от Бреста не найдешь. Это та самая русская экзотика, которую ожидала увидеть в своем воображаемом путешествии Лэсли Бланш, — архитектура цвета, инаковости и жестокости: это «мираж», в котором она видит, как «березы сплетаются с колокольнями, метель окутывает деревянные избушки и гранитные дворцы; там, под черным небом палехской шкатулки, пышут вулканами гигантские медные самовары, у подножья которых жмутся крохотные деревеньки и церкви с голубыми куполами; там все перепуталось, как на ранних, еще витебских картинах Шагала»5.
Тут стоят церковь Иоанна Предтечи с пятью позолоченными луковицами и невероятная Рождественская церковь, которую начали строить в самом конце XVII века на средства купца Григория Строганова. Ее стиль часто называют «нарышкинским барокко», но он не похож на приближенный к итальянскому барокко польский стиль той же эпохи. Русские архитекторы насадили барочное изобилие на грозди луковичных куполов, отличающих русское церковное зодчество. Закрученные, будто взбитые купола Строгановской церкви напоминают разноцветные, грановитые, яркие пирожные; самый высокий купол покрыт позолотой. Происхождение этой романтической формы, первым воплощением которой стал храм Василия Блаженного в Москве, неочевидно, звучат версии о влиянии татарских мечетей; в любом случае, сколько бы ни строили в России итальянские архитекторы, русская архитектура выглядит отчетливо и неизбывно «иной». Трудно определить, указывает ли эта игривая архитектурная оригинальность на принципиально отличную от западных соседей цивилизацию: крепостной в Польше и крепостной в России были одинаково бесправными, независимо от того, следовали архитекторы их господ итальянскому стилю при строительстве церквей или выдумывали свой собственный. Когда начинали строить Строгановскую церковь, Пётр I уже возвращался из Детфорда, чтобы основать на Балтике город, устроенный по модели Амстердама. Настаивать на этом самобытном стиле — знак то ли отсталости и замкнутости, то ли самоуверенности и отказа копировать чужое; это каждый решает сам для себя.
Если перейти по мосту в другую часть города — туда, где метро, фабрики и вокзал, — и обернуться, можно испытать шок. Под и над Кремлем будут ожидаемые разноцветные луковицы куполов — будто с картины Кустодиева, — но на самом высоком холме построили стандартную высотку, как будто специально, чтобы надругаться над очертаниями верхней части города. Главные памятники на другой стороне Оки — еще один неорусский комплекс конца XIX века, здания Нижегородской ярмарки; безразмерная площадь с бетонной гостиницей и громадным памятником Ленину — всего в городе их штук пять, не меньше; желтая церковь в неорусском духе6; Московский вокзал и станция метро «Московская» при нем. Метро — клон московского, с классическими залами и поездами, неторопливо уползающими в Автозаводский район, где сосредоточена (все еще?) промышленная мощь Горького.
Вокзал стоит на площади Революции, и здесь, в отличие от верхнего и нижнего города, вполне можно изучать архитектуру нового русского капитализма. «Макдоналдс» расположился в постмодернистском здании 90-х, специально для него построенном. В Нижнем Новгороде была целая «школа» архитекторов-постмодернистов, и в данном случае их отличает несколько неуклюжая работа с формой, близкая к выпуклым и округлым объемам неорусского стиля, однако здесь мелкие неконструктивные элементы отделены от здания и дополнительно подчеркнуты, это такая «рекламная архитектура» — золотые арки церемонно стоят на небольшом цоколе7. Будучи архитектурой коммерческой, она поживее нескладного классицизма советского ГУМа или по-фостеровски стеклянно-безликого торгового центра «Республика», находящихся на другой стороне этой крайне неудачно названной площади.
«Макдоналдс» пытается замкнуть на себя «традиционную» торговую улочку, которая заканчивается динамично рубленным конструктивистским зданием с залом игровых автоматов8, но попытка это неудачная, поскольку улицу разрезает пополам эстакада. Обветшалая многоэтажка управления метрополитена — она с другой стороны — кажется слишком уж большой для этих целей, учитывая более чем скромные масштабы местного метро; здесь царство автомобилей, Motorcity USSR. На вокзале в глаза бросается мозаика с военно-революционной тематикой, покрывающая все стены до последнего сантиметра.
Над головой — огромная люстра и подвесные потолки, мне говорили, что это единственный вклад в городскую транспортную инфраструктуру, сделанный бывшим губернатором и любимцем либералов Борисом Немцовым, впоследствии убитым. Ближайший крупный город на восток — Казань, столица Республики Татарстан. Но если сесть в трамвай или на метро, можно покинуть этот полувоображаемый мир Русской архитектуры с большой буквы Р и оказаться в одном из крупнейших в мире тщательно спланированном городском районе межвоенной эпохи, в микрокосме государственного социализма — на Автозаводе.
Образцовые рабочие образцового Автозавода
Немногие промышленные города ХХ века были настолько наполнены амбициями, идеологией, межкультурным обменом и межкультурным непониманием, как нижегородский Автозаводский район. Целый город на более чем 100 000 жителей, связанных с огромным автозаводом, который был построен американской компанией по американской технологии, стал — как минимум, поначалу — экспериментом в области коллективной жизни. Рабочие вербовались отовсюду, даже из-за границы, а лидеры международного рабочего движения приезжали с визитом, чтобы узнать, как выглядит этот «рай для трудящихся», и посмотреть, чем район, построенный для рабочих «Форда» в СССР, отличается от аналогичных районов в Великобритании и США — соответственно Беконтри и Дирборна. Соцгород по большей части сохранился и по сей день, хотя немного изменился и оскудел, но это все еще трехмерный выставочный образец социалистического промышленного района, каким он задумывался.
Из центра Нижнего Новгорода до Автозаводского района быстрее всего доехать на метро — по линии, построенной в 1977–1985 годах. С точки зрения инфраструктуры этот новый промышленный район развит значительно лучше, чем его британские аналоги; например, построенный в 1930-е годы рабочий район Уитеншоу на окраине Манчестера (сопоставимого с Нижним Новгородом по размеру) лишь в 2014 году связали с городом трамвайной линией, никакого железнодорожного сообщения, ни подземного, ни наземного, там никогда не было. Трамваи — довольно разбитые — ходят по Автозаводскому району почти каждую минуту; метро, конечно, реже, зато солиднее — район обслуживают целых четыре станции. Поднявшись из метро на поверхность, замечаешь и другие отличия от Великобритании. Во-первых, завод до сих пор работает, хотя объем производства и число занятых на производстве существенно снизились; во-вторых, он до сих пор увешан многочисленными идеологическими плакатами и произведениями агитпропа; в-третьих, достижения лучших работников и особо выдающихся местных жителей до сих пор отмечают на досках почета, которые монтируют прямо на фонарях. «Отличники производства» и «Гордость нашего района» до сих пор могут лицезреть там свои фотопортреты.
Из постоянных монументов обращают на себя внимание несколько аляповатый памятник Ленину и первый выпущенный заводом грузовик на пьедестале, сложенном из бетонных цифр 1932, а наибольшее впечатление производят две огромные мозаичные панели 1982 года, сделанные к 50-летию завода: на переднем плане одинокие фигуры размахивают флагами, за ними некрупные рабочие в комбинезонах и защитных масках собирают на одной панели автомобили, на другой — танки; все это выложено из блестящих голубых, красных и оранжевых камней. То, что завод давно стал капиталистическим предприятием, принадлежащим олигарху Олегу Дерипаске — кстати, большому другу бывшего британского министра Питера Мандельсона, — отнюдь не привело к декоммунизации визуальной риторики и уличного убранства возле отделанной красным гранитом заводской проходной. Скорее наоборот: свежие фотоистории на стендах рассказывают о суровом cталинском наркоме тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, о танках, собранных женщинами во время Великой Отечественной войны, и о колонне черных «Волг» на Вестминстерском мосту. У ворот фабрики Форда в Дагенхэме такого не увидишь. Очевидно, что здесь конвейерная сборка автомобиля имела совсем другой идеологический смысл, чем в Америке, где она символизировала свободу и индивидуальность.
Есть в этом некая ирония, ведь изначально это был совместный советско-американский проект. Завод строился по проекту «Форд Мотор Компани», и какое-то время на воротах рядом с изображением Ленина даже висел логотип «Форда». Завод строился по образу промышленного центра Форда в Детройте и других городах, с тем лишь исключением, что Генри Форд тут не был собственником: Великая депрессия заставила ультраконсерватора и врага профсоюзов Форда возводить государственные заводы для коммунистов. Непосредственно постройкой района занималась «Остин компани» — инженерная фирма из Кливленда, штат Огайо (не путать с английским автопроизводителем). В своем компендиуме ранних советских утопий «Революционные мечты» Ричард Стайтс пренебрежительно отзывается об этом проекте как о неудачной попытке реализовать идеи нового коллективизма, каким он виделся в первые послереволюционные годы. «Город рабочих Горьковского автозавода был спроектирован американцами и одобрен советской властью — с централизованной системой школ, клубов, больниц, пекарен, фабрик-кухонь, прачечных и других услуг для 18 000 рабочих, живущих в домах на 300 человек: насквозь симметричный фаланстер для современной фабрики. Для строительства завода пришлось снести целую деревню с населением 3 000 человек. Однако даже в 1932 году тут не у каждого был свой угол и не в каждый дом провели воду. Эти постройки оказались пародией на светлые мечты о чистых и рациональных многоквартирных домах, какими их видели градостроители 1920-х годов»9.
Утопическая мечта столкнулась с суровой реальностью «отсталой» аграрной страны, переживавшей стремительную насильственную индустриализацию. В данном случае у нас есть документ, показывающий, насколько трудными были на самом деле отношения между американскими промышленниками и советскими архитекторами, и свидетельствующий, что получившийся в итоге «потёмкинский» модернизм не был неизбежным. В книге «Строительство утопии» историю «соцгорода» описал сын главы «Остин компани» Ричард Картрайт-Остин. Он отмечает, что проект был выбран на конкурсной основе в «советском баухаусе», ВХУТЕМАСе: там победил вариант с параллельным расположением многоквартирных домов, соединенных надземными переходами и равномерно оборудованных всеми удобствами, с открытым пространством между ними10. Впоследствии инженеры «Остин компани» доработали этот проект, понимая, что советская строительная отрасль не способна произвести необходимый объем стекла и бетона, поэтому стены стали кирпичными, c тонко проработанной кладкой, окна уменьшились, но общая идея оставалась поначалу неизменной. Более того, методичные американцы как будто бы даже ею загорелись. Глава проекта Аллен Остин писал в 1931 году в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» о степени коммунальности, предусмотренной в новом городе: «Четвертый этаж каждого здания состоит из комнат покрупнее — по площади это как объединенные комнаты на одного и на двух человек. Их займут „коммуны“ — группы из трех-четырех молодых мужчин или женщин, которые вместе учатся или работают»11. Этот проект не был реализован, но не из-за влияния американской морали, конформизма или «тоталитарного» упора на коллективизм, а из-за созданного первой пятилеткой демографического вихря, а именно из-за тотальной недооценки масштабов притока населения в города и промышленные центры.
Картрайт-Остин цитирует репортаж американской журналистки Милли Беннет, которая, если не обращать внимания на некоторую экзотизацию, точно описывает охвативший советские города водоворот безудержной индустриализации: «Русские рабочие приходят на заводы из деревень; это дюжие крестьяне и крестьянки с рюкзаками за плечами. Они живут в наскоро возведенных длинных бараках. Потом, не дожидаясь окончания строительства, они заселяют дома в городке рабочих — на 300 семей каждый — и обустраиваются там лагерем»12. Она подчеркивает, что ни электричества, ни других удобств в этих домах еще нет. Картрайт-Остин отмечает низкую популярность коммунальных квартир, но едва ли дело тут было в идеологии — скорее в том, что «некоторые коммунальные службы так и не были запущены». Судя по книге, после ухода американских инженеров общий образ Автозаводского района откатывается на протяжении 1930-х годов в сторону более консервативной эстетики: у зданий появились двускатные крыши, а про надземные переходы между ними больше уже не вспоминали. Конец этому идеальному советско-американскому городу рабочих пришел, как только с конвейера сошел первый автомобиль: «Утопический город 1930 года пал жертвой экономической необходимости. От него пришлось отказаться в 1932-м… рабочие нового автозавода жили там практически так же, как рабочие в других частях света»13. Что касается жилищных условий, то так оно, похоже, и было. Уроженец Автозавода писатель Кирилл Кобрин в рассказе «Последний европеец», описывая ночную жизнь Дублина, говорит, что он как будто вернулся в советские пролетарские 1970-е и вспомнил: «Тоска во взгляде алкоголически-надтреснутых женщин. Шпанята с острыми носами, зябко свернувшиеся в дешевые курточки. Парни, всегда готовые к выпивке и драке. По понедельникам — неистребимая блевотная вонь на улицах. Горький. Автозавод»14.
В автозаводских кварталах первой очереди дома до сих пор стоят короткими рядами; у некоторых даже сохранились в первозданном виде кирпичные фасады, хотя попадаются балконы, отделанные дешевым гофрированным железом, и довольно странного вида мансарды с красными крышами, явно построенные совсем недавно. Архитектуры конструктивизма в собственном смысле уже не видно, но в самой организации пространства она чувствуется — это коллективный город-сад с довольно легкими, непринужденного вида бульварами c деревьями по обеим сторонам: по ним можно разве что неторопливо прогуливаться. Здесь спокойно, вполне красиво — это не дачный пригород, а парковая окраина. Самое разительное отличие от пролетарских британских Беконтри и Уитеншоу — многоквартирные дома. Там, как и в США, образцом остается просторный дом на одну семью с палисадником перед входом и большим участком на заднем дворе, здесь же все зеленое пространство является общественным. За исключением крохотного квартала, построенного для американских инженеров, домов на одну семью тут нет.
Массовая безработица во времена Великой депрессии совпала с большой потребностью в рабочей силе в Советском Союзе, поэтому Автозаводский район в те годы, как магнит, притягивал из-за границы рабочих, убежденных социалистов, профсоюзных лидеров и рядовых членов профсоюзов. Среди последних были братья Виктор и Уолтер Рейтер: им не показалось, что условия работы здесь лучше, чем в США. Они организовали забастовку на Автозаводе и попали в черный список, после чего вернулись в США, где стали активными участниками воинственного профсоюза работников автомобильной промышленности United Automobile Workers и впоследствии возглавили забастовку на заводе «Дженерал Моторс» в 1936 году. Как и в Нижнем Новгороде, — в 1932-м его переименовали в Горький, — братья Рейтер оказались в черных списках, пережили избиения и покушения, но в итоге победили и создали первый объединенный профсоюз работников автомобилестроения. Позже им даже довелось подшутить над Хрущёвым на его встрече с лидерами американского рабочего движения во время визита в США в 1959 году; они спросили его по-русски: «А Горьковский автозавод все еще носит имя Молотова?» (бывший министр иностранных дел к тому моменту уже находился в опале). А Уолтеру Рейтеру наконец представился шанс задать самый главный вопрос, ответ на который он так и не смог получить в Горьком: «Не могли бы вы привести хотя бы один пример, когда ваши профсоюзы не соглашались с политикой правительства?» «Зачем вы суете нос в наши дела?» — огрызнулся Хрущёв15.
Еще один деятель профсоюзного движения по другую сторону Атлантики гораздо подробнее описал условия жизни рабочих на Автозаводе. Тогдашний лидер Британского конгресса тред-юнионов сэр Уолтер Ситрин противопоставляет условия жизни переехавших на работу в город советских крестьян и муниципальное жилье с просторными комнатами, садами и городскими удобствами, ставшее доступным для британских рабочих благодаря лоббистским усилиям профсоюзов. Путевые заметки, созданные в ходе поездки по СССР в 1935 году, он озаглавил «Ищу правду в России»; в Соцгороде эта правда, как ему показалось, утопала в грязи. «Мы посетили Соцгород, — пишет Ситрин. — Он исключительно хорошо спланирован — с добротными широкими улицами, которые, я надеюсь, когда-нибудь заасфальтируют. Сейчас там сплошная грязь, и трудно не задаться вопросом, будет ли здесь когда-нибудь по-другому. Эти люди очень спешат строить, но редко доводят дело до конца. Им как будто не хватает на это времени». Его удивляет, что улицы не заасфальтированы, но деревья при этом аккуратно высажены — очевидно, он не задумывался о том, что асфальт и бетон были тогда в большем дефиците, чем саженцы. С чисто английским чувством неловкости он отмечает: «Мне было неприятно от мысли, что мы будем заходить в квартиры в измазанной грязью обуви. Но так мы и делали»16. Он обнаружил квартиры, где на каждого отводилось по пять с половиной метров (что, надо признать, было лучше, чем в этом городе в целом, где на человека приходилось в то время три с половиной квадратных метра), семья из четырех человек занимала две комнаты, пользуясь общей с соседями кухней, — коммунальная жизнь оказалась не столь удобной, как обещали проекты, разработанные во ВХУТЕМАСе. О самих удобствах он вообще не пишет, поскольку тогда еще ничего не было готово, но именно в этом и проявлялось разительное отличие условий в СССР и на Западе.
В британском Уитеншоу, к примеру, главная архитектурная достопримечательность для тех, кого не трогают дома в стиле движения «Искусств и ремесел», — это экспрессионистские церкви, современные кинотеатры обтекаемых форм или торговые улицы. Никаких церквей в заведомо безбожном городе Горьком быть, разумеется, не могло, а вот кинотеатры и сфера потребления определенную роль играли. Универмаг был построен в 1937 году по проекту Льва Наппельбаума в постконструктивистском стиле, т.е. с упрощенными застекленными объемами и слегка классицистским декором. Изящно изогнутый и застекленный объем центральной лестницы до сих пор поражает воображение, а искусно сделанную балюстраду не портит даже привычное для современной России нагромождение магазинчиков и ларьков внутри. В промышленных городах и крупных районах муниципального жилья в Англии в 1930-е годы точно так же безраздельно властвовали магазины сети «Ко-оп». Большие кинотеатры там тоже были, но трудно сыскать «Одеон» размером с автозаводский «Мир» — еще одно здание 1937 года, построенное по проекту архитектора Александра Гринберга. Квадратный портал, отделанный темным гранитом, с кессонным потолком, служит главным входом в здание, а крыло с рестораном и прочими службами увенчано соцреалистическими скульптурами — мускулистые мужчины и пышные женщины с хорошо проработанными пластическими изгибами.
Напротив стоит Дворец культуры — один из тех единых театрально-музыкально-образовательных центров, игравших в СССР столь же важную роль, как и в каком-нибудь патерналистском предместье типа Бурнвиля17; впрочем, в Горьком он куда масштабнее. Это банальный образчик сталинской архитектуры — массивный объем, хаотично декорированный классицистскими элементами. При этом внутри, за величественным неоклассическим центральным атриумом, подвергшимся весьма небрежному ремонту, имеется мозаика периода оттепели. На центральной панели изображен Ленин, на двух боковых — жизнерадостные, легкие образы революции, строительства, науки, футбола, резвости и веселья, совершенно преображающие тяжеловесный интерьер здания. Все образы здесь связаны с кипучей деятельностью. Железобетонные панели взмывают ввысь на крюках подъемных кранов, чтобы сложиться в здания. Дымят заводские трубы. Мужчины в длинных шлюпках энергично работают веслами. Молодежь сидит у костра. Женщины-ученые вглядываются в пробирки. И над всем этим, на потолке лестничного колодца, красуются канонические образы мухинских рабочего и колхозницы, советского аналога статуи Свободы. В совокупности мозаики отражают идеализированное представление общества о себе самом в трех разных стилях: «спортивная» часть реалистична, но при этом она яркая и бесхитростная, роспись потолка тоже упрощенная, мультяшная, похожая на работу какого-нибудь американского послевоенного иллюстратора — вроде Сола Стейнберга. Напротив мозаик висят реалистические панорамы Волги — сюжета, в разработке которого противоречий между современной и советской эстетикой не возникало.
Некоторые виды активного отдыха, изображенные на стенах ДК, доступны и по сей день в расположенном по соседству мини-«парке Горького» — это типичная «благоустроенная территория», не слишком отличающаяся от парков в промышленных городах и районах муниципального жилья на Западе, возведенных в межвоенное время, хотя тут больше героических скульптур и терпимости к китчу — это наполовину городской парк, наполовину луна-парк; архитектурной доминантой здесь является заброшенное кафе «Тарелка» — безыскусная летающая тарелка из 1970-х, сочетающая в себе дух футуризма, грубые формы и упадок, передающиеся всему окружающему пространству. Вокруг Парка культуры — более поздние неоклассические жилые дома, иерархическая, монументальная сталинская архитектура, пришедшая на смену коллективистским мечтаниям конструктивизма; некоторые построены по проектам бывших конструктивистов — вроде гигантского радиусного дома с полукруглыми балконами, неожиданного произведения братьев Весниных. Рядом с парком — ряды хрущевок, заброшенная ТЭЦ и несколько одинаковых башенных домов из красного кирпича. Все это пребывает в упадке. Но, несмотря на безработицу, неравенство, распад и уныние, на Автозаводе в глаза бросается не разрыв с прошлым, а то, что с ним связано. Это не уникальные черты советского прошлого вроде квартплаты, не превышавшей пяти процентов заработка, или полной занятости, но все равно нечто, чего нельзя представить в городах Форда на Западе. Конечно, тут можно называть доски почета с жителями города, развешенные по всему бульвару. Но возле Автозаводского парка есть нечто, что не просто выжило, но и продолжает развиваться.
Там находится импровизированный пляж на заброшенном карьере у озера. В погожий майский день он усеян не только мусором, но и людьми — они греются на солнце, флиртуют, загорают топлес, сидят компаниями, пьют — одним словом, ведут себя примерно как на пляже в Дагенхаме18. Мы сидели на скамейке, пока не полил (неизбежный) дождь. Вокруг пляжа — череда башенных домов, явно выстроенных в какую-то линейную систему, как стена на другой стороне озера. На первый взгляд, их построили в 1980-е, хотя на самом деле в 2010-е, и квартиры в них не раздают практически бесплатно рабочим завода, хотя с точки зрения архитектуры и планировки это те же самые здания. Это микрорайон XXI века. Все «социальные» аспекты социализма отброшены, не считая каких-то ошметков, зато его эстетика и технологии оказались на удивление востребованными19. Может быть, новым жильцам этих неуклюжих башен когда-нибудь повезет оказаться на Доске почета работников автозавода.
1. Бланш Л. Путешествие в воображаемое. Лондон: Эланд Букс, 1968.
2. См. Drakulic S. Cafe Europa. Abacus, 1996.
3. Blanch L. Journey Into the Mind’s Eye. Elend, 2005. E-book, loc 412.
4. Ibid. Loc 640.
5. Ibid. Loc 2435.
6. Автор так называет собор Александра Невского. — Прим. ред.
7. О нижегородской школе с симпатией отзываются Барт Голдхоорн и Филипп Мойзер. See: Goldhoorn B., Meuser P. Capitalist Realism — New Architecture in Russia. Dom Publishers, 2009.
8. Сейчас зал игровых автоматов закрыли и в здании располагаются цветочная база, аптека и ломбард. — Прим. ред.
9. Stites R. Revolutionary Dreams. Oxford, 1989. P. 237–238.
10. Речь идет о домах, получивших позже народное название «щитки». — Прим. ред.
11. Cartwright-Austin R. Building Utopia — Erecting Russia’s First Modern City 1930. Kent, 2004. P. 54.
12. Ibid. P. 166.
13. Ibid. P. 56.
14. Kobrin Kirill. The Last European (3:AM Press, 2013), unpaginated. В данном издании цитируется по оригиналу: Кобрин К. Где-то в Европе. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 107.
15. Carlson P. K Blows Top. Public Affairs, 2009. P. 147.
16. Citrine W. I Search for Truth in Russia. Routledge, 1936. P. 149.
17. Образцово-показательный поселок под Бирмингемом, построенный в конце XIX века кондитерской компанией «Кэдберри» для ее рабочих. — Прим. ред.
18. Еще один населенный пункт (восточный пригород Лондона), где в начале 1930-х «Форд» построил автозавод. Завод закрыли в 2002-м. В окрестностях Дагенхама расположено несколько водоемов, природных и искусственных, а также протекают небольшие речки.
19. Этот парадокс описан у Макса Шера и Сергея Новикова. See: Sher M., Novikov S. Infrastructures. Recurrent Books, 2019.
Обложка статьи: Панорама Нижегородского кремля и прилегающих улиц исторического центра Нижнего Новгорода
- Фото:Дима Четыре
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: