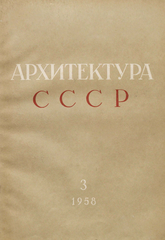Ордер — поразительное явление в истории архитектуры. Он существовал более двух с половиной тысяч лет. Неоднократно он умирал, чтобы воскреснуть вновь. Несколько веков он пролежал под толстым слоем пыли, всеми забытый, а затем стал знаменем архитектуры Возрождения и классицизма. К ордеру возвращались много раз. В начале XX века он потерпел сокрушительный удар от конструктивистов, его не стало на наших проектах. Однако уже через несколько лет он опять стал источником вдохновения для архитекторов.
Классический ордер и современность

- Текст:Г. Борисовский, А. Мардер, Б. Грицевский10 марта 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
В ордере отражено оптимистическое, реалистическое восприятие жизни. Светлые и ясные образы Эллады пронизывают ордер. Не случайно к нему неизменно обращались эпохи, лишенные мистики и религиозного экстаза. В готике, например, нет места ордеру.
Ордер не случайно привлек внимание наших зодчих. Он имеет огромную силу выразительности. Стоит к зданию приставить ряд колонн, приставить портик, как здание сразу приобретает особые качества. Оно становится торжественным, монументальным, порой лиричным (ампирные особняки), но каждый раз более значительным. Ордер обладает поразительной способностью придавать каждому зданию особую значительность.
У ордерной архитектуры славная, по противоречивая история. Ордер порой поднимался до вершин мировой архитектуры, а порой снижался до сухого, безжизненного академизма и даже пошлого модерна. Изложить историю ордерной архитектуры — это значит рассказать больше, чем половину истории мирового зодчества. Трудно переоценить все значение ордерной архитектуры и тот резонанс, который она вызывала в творчестве зодчих.
Ордер возник в маленькой Греции, совершившей столько больших дел. Одним из них и был созданный греками ордер. Он появился из простейшей конструкции каменного столба и каменной балки. В ордере греки опоэтизировали эту конструкцию и тем самым придали ей необычайную силу выразительности. Ордер — это опоэтизированный каменный столб и каменная балка.
Но постепенно ордер все более и более отрывался от породившей его конструкции, пока не сделался декорацией, красивой, торжественной и монументальной, но функционально бесполезной.
Постепенно ордер превратился в украшение. Об этом со всей откровенностью говорят зодчие эпохи Возрождения. Так, например, Альберти пишет об ордере в книге «Об украшениях»: «Во всем зодчестве, бесспорно, первое украшение — колонны». Виньола в книге «Правило пяти ордеров архитектуры» сообщает, что он взял «те античные украшения пяти ордеров, которые можно видеть в римских древностях ...», а в другом месте говорит: «что же касается остальных украшений, а именно архитрава, фриза и карниза мне представляется уместным соблюдать то правило, которое я нашел для других ордеров ...». Для Виньолы архитрав только украшение. Ордер Виньолы не связан с реальными размерами и конкретными строительными материалами, что еще раз говорит о его декоративности.
Но будучи украшением и декорацией (конечно, далеко не всегда), ордер неизменно сохранял все черты и особенности каменной конструкции, подчиняясь ее закономерностям, ее тектонике, ее конструктивной логике. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое определило многое. Именно благодаря этому ордер неизменно сохранял видимость пользы, видимость конструктивной необходимости, сохранял свою тектоничность, что оградило его от опасности превратиться в бессодержательный декор.
Размышляя на данную тему, невольно вспоминаешь театр. Театр есть отражение жизни, ее изображение, но отнюдь не сама жизнь. Но то, что происходит в театре, обусловлено жизнью, ее закономерностями, ее логикой. То же и в ордерной архитектуре.
В самом деле, что представляют собой многие фасады современных и старинных зданий, как не подмостки «театра», на которых пилястры «разыгрывают» роль тяжело нагруженной конструкции, подвешенные декоративные кронштейны играют роль необходимых частей здания. а тонкие штукатурные русты изображают огромные каменные квадры.
Реальную действительность ордер превратил в великолепный театр, на подмостках которого он стал выступать в качестве гениального актера. Но он был не только актером. но и режиссером одновременно. Даже тогда, когда его не было на фасаде, он подобно режиссеру диктовал свою волю. Фасад членился так, как если бы он имел ордерную систему. Величина карниза определялась исходя из величины ордера, равного величине фасада. Величина городской площади связывалась с размерами ордера (высота колонн должна составлять 1/4 от диаметра площади — правило, установленное Блонделем).
Ордер, как актер и режиссер, великолепен. Диапазон его творчества огромен. Он создавал произведения, самые разнообразные по своей форме и содержанию. В мраморных колоннах Парфенона выражена величественная красота древней Греции и мудрость ее народа. В чеканном ритме бесчисленных колонн Пальмиры слышится угрожающий шаг римских легионов. Он же создавал произведения, полные уюта и лирики, примером чет могут служить помпеянские дворики. В эпоху Возрождения ясный рационализм ордера был противопоставлен мистицизму средневековой архитектуры. Позднее ордер выражал пафос французской революции. Он же выражал величие и мощь императорской России.
Нельзя не выразить свое восхищение этому поразительному актеру, сыгравшему на своем длительном веку множество пьес, столь чудесных и столь разнообразных.
Но сегодня этот «актер» способен нам нанести большой вред. Он готов превратить самую современную конструкцию степы (блочную, крупнопанельную) в театральную декорацию, изображающую величие итальянских палаццо, мощь римского Пантеона, красоту греческих храмов. И тогда мы легко забываем о наших повседневных нуждах, о необходимости решать жилищный вопрос, о поразительных достижениях нашей техники.
Ордерная архитектура и сегодня волнует нас своим театральным пафосом, но она уже не в состоянии ответить на запросы нашей действительности.
* * *
В ордере заложены два начала. Одно адресовано к истинным талантам, другое к посредственности.
Создать ордер, где каждая колонна напоминает живое существо, где каждая деталь овеяна истинной поэзией, создать такой ордер не легко. Для этого надо быть поэтом и мыслителем, художником и строителем одновременно. Для этого надо быть Зодчим. Создать ордер Парфенона мог только гений.
В течение четверти века советские зодчие применяли ордер, но только нескольким из них удалось создать по-настоящему красивую ордерную архитектуру. Это лучшая иллюстрация того, насколько трудно создать ордерную архитектуру, по-настоящему красивую и выразительную, не затрагивая пока вопрос о том, прогрессивен ли ордер в наших условиях.
Наряду с этим ордер доступен каждому. Любой архитектор мог применить ордер, для чего не требовалось особых знаний и таланта. В этом нам сильно помог Виньола, который создал свой знаменитый труд об ордере настолько доступный, «что каждый — даже скромно одаренный человек, по не совсем лишенный художественного вкуса сможет, не особенно затрудняя себя чтением, с первого же взгляда все это усвоить и должным образом применить». В дальнейшем и в особенности в конце XIX и начале XX веков ордер стал покровителем «скромно одаренных людей», не затруднявших себя особенно доскональным изучением архитектуры.
* * *
Ордер самая ясная, самая понятная, самая наглядная конструктивная система. Стойка и перекладина вот и все.
Форма колонн, архитрава, отдельных деталей и профилей как нельзя лучше подчеркивает эту простую и понятную систему. Простота, свойственная этой элементарной конструкции, делает ордер предельно понятным и доходчивым.
Здесь понятность стала эстетической категорией, критерием красоты. Но ясность конструкции и тектоники далеко не всегда была и есть критерий красоты. Существовало и существует много конструктивных систем, сложных и мало понятных для обычного зрителя, например, храм Софии в Константинополе. Его построили тс же греки, которые несколько веков назад создали ордер. Колоссальный купол на парусах (около 30 м в диаметре) у своего основания окружен венцом из окон, через которые льется свет. В результате купол кажется изолированным и как-бы висящим в воздухе. Конструкция перестала быть ясной и понятной, она висит в воздухе. Ясность и понятность конструкции здесь уже не являются критерием красоты. Но архитектура от этого не стала менее прекрасной.
В готическом храме огромные аркбутаны окружают здание подобно бесчисленным щупальцам колоссального осьминога. Зритель недоумевает, для чего создана эта конструкция? Надо иметь специальные знания, чтобы понять ее истинный смысл. Тем более, что своды, распор которых воспринимают аркбутаны, находятся внутри здания, они не видны. Когда зритель входит внутрь, то видит своды, но перестает видеть аркбутаны, и конструкция остается непонятной. Здесь понятность конструкции также не является критерием красоты.
Многие современные конструкции отличаются теми нее особенностями. Часто, будучи весьма рациональными, они имеют малопонятную форму. Например, в металлических мостах и фермах истинный смысл работы сложнейшей системы рам и растяжек часто остается скрытым для неискушенного зрителя. В проекте огромного здания строительной выставки имеется главный зал пролетом 114 м, перекрытый легкой конструкцией. Эта конструкция опирается на тонкие сигарообразные стойки-штанги. Стойки имеют наклон внутрь.
Возникает ряд недоуменных вопросов. Почему стойки наклонены внутрь? Почему эти стойки имеют сигарообразную форму? Почему они столь легки и изящны?
Вантовая конструкция — достижение современной строительной техники. Огромное перекрытие, подобно колоссальному тенту, «провиснув», висит над залом. Эта конструкция прикреплена к двум косо поставленным аркам. Все перекрытие опирается только в двух точках.
Здесь все противоречит нашим привычным представлениям, и непонятно, почему эта конструкция не опрокинется. Подобных примеров можно привести немало.
Поражает смелость, с которой конструктор перекрыл огромное пространство. Испытываешь удивление и восторг перед человеческим гением, создавшим конструкции, которые, как бы поправ законы тяжести, парят в пространстве.
Эти конструкции красивы, но по-своему. Здесь понятность и зрительная простота конструкции уже не являются критерием красоты. Что же касается ордера, то здесь ясная и доходчивая тектоника стала одним из критериев эстетической оценки архитектурного произведения.
Именно поэтому во имя ясности восприятия тектоники некоторые архитекторы надевают на фасад здания ордер, ставя иногда несколько ярусов пилястр, которые изображают попятную, по иллюзорную балочно-строечную систему. Этот прием создает видимость ясности и в то же время уводит пас от реальной действительности, заставляет забыть о достижениях новой передовой техники. Поэтому он бесперспективен.
* * *
Из всех колонн, когда-либо существовавших, колонны ордера наиболее реалистичны (имеется в виду их конструктивный смысл).
В основе ордера лежит определенная конструктивная логика, жесткая и непреклонная, тесно связанная с объективными закономерностями, свойственными каменной конструкции. Но камень работает только на сжатие, на растяжение он почти не работает. Ордер наглядно и поэтично рассказывает о сжатии камня. Но сжатие — это только первичная, начальная область науки о сопротивлении материалов. Следовательно, древние греки опоэтизировали только первую наиболее простую конструкцию, работающую на сжатие.
Конструкции, работающие на растяжение и изгиб, еще никем не были подвергнуты эстетическому переосмыслению. И можно ли вообще конструкцию, работающую на растяжение или изгиб, сделать столь простои и понятной, и столь же поэтичной каким является ордер? При этом нельзя забывать о том, что в современных конструкциях одни и те же элементы часто работают (в зависимости от ветровых усилий) попеременно — то на сжатие, то на растяжение. Вряд ли можно так красиво, поэтично (и точно «рассказать» о работе современных конструкций, как это сделали древние греки по отношению к элементарной балочно-стоечной системе.
Но ясно одно. Нельзя во имя доходчивости и понятности тектоники придавать новым современным конструкциям видимость балочно-стоечной конструкции ордера.
* * *
Основываясь на ордерной архитектуре, некоторые наши теоретики установили ряд «вечных» законов красоты и гармонии. Например, пресловутое «облегчение вверх». Тяжелые части должны располагаться внизу, более легкие вверху. Если фасад не имеет колонн, то внизу располагаются мощные русты, а на них покоятся более легкие рустики и т. д. То же самое относится и к архитектурным профилям, деталям и орнаментам.
В этом есть определенная логика. Здание, построенное по такому принципу, будет казаться устойчивым и прочным. Но являются ли эти и подобные им особенности (вполне логичные и обоснованные в условиях каменной конструкции) вечными законами?
Зодчие эпохи Возрождения уменьшали верхние архитектурно-строительные элементы не потому, что это было продиктовано «вечными» законами тектоники, а в силу необходимости уменьшить их вес в верхних этажах, облегчив их подъем (кранов не было). В то же время этот прием позволил придать фасаду особую выразительность и органичность (рост кверху). Этому умению старых зодчих переосмысливать как художественную систему строительно-конструктивную основу здания и следует нам учиться.
Но меняются конструкции — меняются и «вечные» законы тектоники.
Облегчение строительного материала кверху свойственно только каменным степам и совершенно не свойственно целому ряду новых конструкций, например рамной системе, где основная масса материала располагается вверху, в местах сопряжения горизонтальных частей с вертикальными.
Меняется способ производства работ — должны меняться и «законы» тектоники. Крупные блоки изготовляются на заводе одинаковыми как для нижних, так и для верхних этажей. Сделать блоки различными (в нижних этажах более массивными с грубой фактурой) — это значит увеличить количество типов наружных блоков вдвое. Так, в жилом доме в Ленинграде на Кузнецкой улице архитектор, следуя за «вечным» законом тектоники (облегчение вверх), придал блокам в нижних этажах одну фактуру, в следующих — другую, менее монументальную, а в верхних— гладкую. В результате дом имеет 540 типов блоков. «Вечные» законы тектоники, связанные с особенностями ордера, вступают в прямое противоречие с требованиями передовой техники и тем самым — с требованиями жизни. Эти «законы» становятся предрассудками.
* * *
Основным и почти единственным недостатком ордера некоторые архитекторы считают то, что он дорог и трудоемок, что если бы перед нами не стояли задачи построить такое огромное количество жилых домов и тем самым соблюдать самую строгую экономию, то ордерная архитектура могла бы процветать и поныне. По их мнению, мы вынуждены отказаться от ордерной архитектуры в силу этих обстоятельств. Изменятся обстоятельства — вернется и ордер. Это глубокое заблуждение. Ордер может быть дорогим и трудоемким, а может быть дешевым и экономичным. Афинские пропилеи обошлись грекам чрезвычайно дорого. Перикл даже вынужден был оправдываться перед своими согражданами по поводу такой дорогой постройки. А знаменитые колонны Дома Союзов в Москве — это деревянные столбы, покрытые штукатуркой! (мраморовидная штукатурка). Подавляющее большинство колонн Ленинграда, таких красивых и монументальных, сделаны из кирпича или дерева и покрыты простой штукатуркой. Они экономичны и дешевы.
Архитектор И. Жолтовский построил дом на Моховой с колоссальным ордером, который обошелся не дешево. Тот же архитектор построил здание Госбанка и жилой дом на Калужской улице (Москва), где применение ордера (тонкие штукатурные пилястры) позволило создать красивые фасады, не прибегая к дорогостоящим материалам (простая штукатурка).
Легко можно представить, что элементы ордера, соответствующим образом переработанные и унифицированные, будут «штамповаться» на наших заводах и поэтому окажутся весьма дешевыми и общедоступными. Как известно, такие попытки делались несколько лет назад.
Имеет ли будущее такое использование ордера? Нет. Все, что мы создаем, должно носить печать современности, все, что мы делаем, должно отражать нашу эпоху, наш быт, наше миропонимание. Без этого архитектура не может быть красивой. Архитектура должна быть современной.
В настоящее время усилия наших конструкторов и технологов направлены на то, чтобы сделать как можно легче конструкцию и строительные материалы.
Строительный материал СВАМ, разработанный А. Буровым, позволит уменьшить вес наших зданий в 20 — 25 раз. И это категория не только технико-экономическая. Здесь заложены основы повой эстетики. Огромные пространства, перекрытые легкой ажурной конструкцией, легкие дома из тонкой и прочной пластмассы, многоэтажные здания, с опорами в нескольких точках, несут в себе источник нового понимания красоты.
Ордер возник из каменной конструкции. Дли камни характерен большой вес и уплотненная масса. Ордер как нельзя лучше выражает эту особенность. Монументальность, основанная на массивности и большом весе, стала своего рода эстетической категорией. Таким образом, налицо еще одно противоречие между эстетикой, заложенной в ордерной архитектуре, и требованиями повой техники и новым пониманием красоты.
* * *
Каждое изделие несет на себе следы породившего его труда. Если вещь сделана топором, то упрощенность, обобщенность формы, грубость фактуры будут отличительной ее особенностью. Эта вещь красива как примитив. Если вещь сделана при помощи тонкого инструмента и искусными ремесленниками — ей свойственно изящество, тонкость и т. п. качества.
Вещь, сработанная машиной, проста, как бы внутренне собрана. В ней нет ничего лишнего. Это «язык» машины. И если на этом языке мы будем говорить об особенностях изделий ремесленного труда (например, о топорности деревянного наличника), то это будет смешная и бесцельная попытка взрослого человека говорить на языке ребенка. Здесь мы не получим подлинной вещи. Это будет лишь подделка. А всякая подделка никогда не сможет подняться до большого искусства. Самая тонкая имитация прекрасной греческой вазы бледнеет перед топорностью настоящей деревянной чаши. Машина должна выпускать подлинные вещи, а не имитацию.
Ордер — продукт кустарного производства. Здесь каждая деталь потрясает многоделием, изумляет той царственной щедростью, с которой человек тратил свой труд на их изготовление. Современная вещь сделана машиной. Машина экономит человеческий труд. Чем меньше потрачено труда на данное изделие, тем оно практичнее.
Современная архитектура может быть по-настоящему красивой лишь тогда, когда она не вступает в противоречие с нашими современными представлениями о целесообразности и пользе. Меняется представление о пользе — соответственно меняется представление о красоте. Раньше многоделие делало архитектуру красивой, теперь экономия человеческого труда придает ей выразительность (хотя мы и не потеряли способности восхищаться красотой старинных изделий, связанных с многоделием).
Ордер песет на себе все черты и особенности породившего его труда, труда искусных ремесленников, каменотесов, лепщиков. И если мы сделаем попытку выпускать его с помощью машины, то ничего, кроме подделки, не получим. Такой путь бесперспективен.
Если бы современный архитектор построил здание, подобное Парфенону и равное ему по своим достоинствам, то оно было бы воспринято как гениальная имитация, гениальная историческая декорация и только.
Когда видишь фасад первой в мире атомной электростанции, «оформленной» системой самых банальных, допотопных пилястр, то понимаешь всю нелепость такой архитектуры. Такое ультрасовременное содержание (атомная станция) — и такая архинесовременная форма. Вот пример вопиющего противоречия между ордером и современностью.
* * *
Красота нашей архитектуры теснейшим образом связана с современностью. Если архитектура не песет на себе печати современности, то она и не может быть красивой. Ордер не отвечает современному пониманию красоты. Но этим я вовсе не хочу сказать, что ордер не может расти и развиваться. Работы И. В. Жолтовского и его учеников говорят об обратном. Сколько новых оригинальных и порой совершенно неожиданных композиций удалось получить этим зодчим, основываясь на ордерной системе. Смотришь на их проекты и постройки, и старый, такой хорошо знакомый ордер предстает перед тобой как нечто полное интереса и новизны. Но между современностью и новизной нельзя ставить знак равенства. Не все новое обязательно отличается современностью. И не все новое обязательно прогрессивно.
Ордер имеет полную возможность расти и развиваться. Но такое развитие бесперспективно. Развиваясь, ордер уводит нас от действительности. Он уводит нас в мир театрально-условных форм и образов, порой прекрасных и поэтичных, по связанных с прошлым, а не с настоящим и будущим.
Некоторые зодчие пытались влить в старое тело ордера молодую кровь современности. Но эти попытки не увенчались и не могли увенчаться успехом.
Вспомним еще раз попытки талантливых архитекторов Фомина и Щуко. Чего только они не пытались сделать с ордером. Какие операции не производили над ним. Удлиняли колонны, спаривали их, отрезали капители. Но от подобных хирургических вмешательств ордер становился все более дряхлым. Ордер утерял будущее.
Многие возразят. Ордер не исчезнет из нашей архитектуры. Он будет применяться в театральных зданиях. Пантеоне, Дворце Советов . . . Может быть. Мы порой применяем древнеславянский язык, когда хотим придать нашим мыслям особую значимость и торжественность. Ученые и врачи применяют латинский язык в медицине. Но разве от этого мертвые языки становятся живыми?
Если мы и будем применять ордер в особых случаях, то разве от этого он станет более прогрессивным и современным?
И если сегодня у ордера нет будущего, то у него есть славное прошлое.
Лучшие памятники архитектуры связаны с ордерной системой. Парфенон, Колизей, Пантеон, Адмиралтейство, Казанский собор и множество других, не менее совершенных творений человеческого гения выражают величие и красоту, пользуясь языком ордерных форм.
Ордер неразрывно связан с нашим славным прошлым, его поэзией и красотой. Лучшие образцы ордерной архитектуры всегда будут служить источником нашего вдохновения и радости.
Но дело не только в этом. Ордер неизменно является объектом самого кропотливого изучения наших зодчих и ученых. Изучая ордер, мы познаем законы гармонии.
Но есть два ордера. Ордер как стройная тектоническая система, в основе которой лежат объективные особенности каменной конструкции, объективные законы сопротивлении материалов, поднятые до настоящей поэзии (ордер — опоэтизированная конструкция); и другой ордер — архитектурная декорация, порой гениальная, но функционально бесполезная, в которой реальная польза подменяется ее видимостью.
История архитектуры подтверждает это. Можно видеть, что подмена принципов художественной правды правдоподобием в коночном счете приводит к упадку архитектуры, а часто и к прямому украшательству.
Применение ордера сегодня, в условиях индустриализации строительства и новых конструкций, означает отказ от здоровых принципов реализма, заложенных в классической архитектуре вообще и классическом ордере к частности.
* * *
Ордер исчезает из нашей архитектурной практики. Его почти не встретишь в наших проектах. Его нет на новых постройках.
Еще вчера он всюду занимал почетное место. Еще вчера мы изучали его пылко и настойчиво, он служил источником вдохновения в нашем творчестве. Аспиранты посвящали ему свои диссертации. Ученые на его основе искали «вечные» законы красоты и гармонии. Еще вчера он казался нам вечно молодым и бессмертным, а сегодня он почти исчез из нашей практики. Таков факт.
И вот сегодня, когда ордерная архитектура уходит в прошлое и вместо нее возникает другая архитектура, современная и индустриальная, хочется осознать, с чем же мы, собственно говоря, расстаемся.
Мы расстаемся с ордерной архитектурой потому, что та эстетика и та философия, которые лежат в ее основе, находятся в противоречии с нашей передовой техникой, с запросами массового строительства, с нашими представлениями о целесообразности, пользе и красоте.
Г. Борисовский
О публикованная в порядке обсуждения статья кандидата архитектуры Г. Борисовского «Классический ордер и современность» вызывает большой интерес. Вопрос об отношении к классическому ордеру интересует молодое поколение архитекторов с самого начала их учебы в институте. Мы начали учиться в то время, когда ордер еще господствовал в нашей архитектуре, но уже чувствовалась противоречивость такого положения. А оканчивали институт уже в период борьбы с излишествами в архитектуре, борьбы за индустриальность строительства, за соответствие формы внутреннему содержанию архитектурных сооружений и как следствия всего этого—«борьбы с ордером», если так можно выразиться, подразумевая под словом «ордер» просто систему колонн.
Помню, как однажды в Ленинграде на строительстве семиэтажного дома архитектор, автор проекта, ужаснулся тому, что ошибочно выдал строителям отметку цоколя на 3 см ниже, «чем получается отметка базы по Виньоле». Опасения, однако, оказались напрасными, отметка была выдана правильно. Очевидно, автор не один раз подсчитывал таблицу Виньолы в применении к своему проекту. Мне остро запомнился весь «ужас» этого положения: двухэтажный портик на 3 см не соответствует канону. Все было подчинено ордеру — длина здания и высоты этажей, количество типоразмеров сборных элементов и вес их, этажность зданий, планировка и освещенность помещений. Особенно, на мой взгляд, это чувствовалось в Ленинграде. Ленинградские архитекторы оправдывали это тем, что они не хотели нарушать стиля города. И если у опытных, больших мастеров применение ордера в современных зданиях было, в худшем случае, просто украшением, то многие другие архитекторы, применяя ордер, сильно нарушали соответствие зданий своему назначению.
Виноваты ли в этом сам ордер, его принципы, его формы? Безусловно, нет. Виноваты те, кто считал ордер вечным и незыблемым, кто видел в нем каноны красоты, одинаковые для всех времен и эпох, кто малейшее отступление от этих канонов считал невежеством и дурным вкусом.
Невозможно представить себе художника, который при помощи измерителя и масштабной линейки переносил бы к себе на полотно, допустим, «Бурлаков» Репина. А ведь многие наши архитекторы в течение ряда лет именно так и поступали с каноническим ордером. При этом следует принять во внимание, что обычно архитекторы, за исключением больших мастеров, пользовались не теми или другими памятниками архитектуры прошлого, а чаще всего их каноническими обобщениями. Ведь ордер никогда не был таким сухим и неизменным, каким его изобразил Виньола. Огромная работа и величайшая заслуга Виньолы состоит в обобщении памятников и выведении общих законов ордера.
Греческие памятники разнообразны и сходны лишь по общим тектоническим и художественным принципам трех греческих ордеров, отличаясь широким диапазоном деталей. Римский ордер значительно суше. Еще более сух и статичен ордер эпохи Возрождения, несмотря на всю свою пышность и огромное разнообразие композиций. Греческая архитектура была, пожалуй, единственной архитектурой, где ордер выражал полное соответствие содержания и формы, конструктивного строя и его художественного выражения. Уже в римской архитектуре ордер теряет свое тектоническое значение. Архитравная система ордера, обрамляющая конструктивную арку, превращается в украшение. Колизей — яркий пример украшения ордером, лишенным всякого конструктивного смысла. А в эпоху Возрождения архитекторы даже не ставили своей задачей применение ордера в качестве конструктивной системы.
В эпоху Возрождения ордер становится одной из форм украшения стены. Именно эта сторона применения ордера — украшение стены, украшение здания — развивалась до наших дней. Значит, к нашему времени ордер потерял не только свое конструктивное значение, став украшением, а в большой мере и художественное, войдя в застывшие рамки канонов. И в нашу архитектуру широко вошла, грубо говоря, подделка — мы копировали внешнюю форму классических канонов, которые сами являются всего лишь обобщенной копией подлинных произведений искусства.
Канон и творчество — понятия несовместимые. А ведь архитектура — это творчество, творчество живое и развивающееся. Все виды искусства так или иначе отражают жизнь и развитие общества, но архитектура — особенно, так как она прежде всего служит материальным потребностям общества.
Догматическое истолкование классического ордера, боязнь отойти от испытанных архитектурных форм затормозили движение архитектуры. Форма отстала от содержания даже в буквальном смысле: на железобетонную колонну сечением 30x30 см мы часто надевали облицовку, имитирующую «классическую» колонну диаметром 1,5—2 м.
И среди молодежи, и среди архитекторов старшего поколения существуют своего рода два «лагеря» — сторонников и противников применения колонн.
Первые упорно ставят колонны, где только это удается. Если не колонны, то хотя бы пилястры.
Вторая группа — «противники колонн» — принципиально оставляют только гладкие стены. И если даже в здании стена с пилястрами — основная несущая конструкция, этот архитектор не отразит на фасаде пилястр, оставит стену плоской, не выяснив ее тектоники.
Как много вреда развитию советской архитектуры приносили эти крайности! Именно поэтому так актуальна статья Г. Борисовского, что она затрагивает вопрос освоения классического наследия не «вообще», а в его конкретных проявлениях. Обсуждение этой статьи поможет разобраться в диалектическом развитии такой могучей архитектурной композиции, какой является классический ордер.
По моему мнению, тому, что у молодого поколения архитекторов складывалось бездумное отношение к ордеру, много способствовала неправильная постановка изучения классического наследия в институтах. Нас учили, что это красиво, но не объясняли, почему. Нам указывали, что этому нужно учиться, но не говорили как. Из огромного количества памятников архитектуры, изучавшихся на лекциях, в памяти студента оставались только формы и примеры, но не принципы. А именно принципы должны были быть раскрыты. Архитектурные формы исторически изменяются, но некоторые общие принципы реалистической архитектуры остаются неизменными, как неизменны общие законы движения материи, несмотря на бесконечное многообразие форм их проявления.
Из многих преподавателей, которые читали у нас лекции по истории архитектуры и искусства, я не могу не помянуть благодарным словом Николая Павловича Северова. Он тонко, вдумчиво и глубоко объяснял нам законы красоты памятников архитектуры. На немногих характерных памятниках он учил постигать принципы создания подлинной архитектуры. К сожалению, это было на младших курсах, когда легче воспринимается внешнее, и мы не всегда внимательно относились к этим лекциям. Мне кажется, что лекции по истории архитектуры должны читаться именно с целью раскрытия законов архитектурной композиции, а не только освещения истории развития архитектурных форм. И читать эти лекции следует не на младших курсах института, а на старших, когда студент, самостоятельно проектируя, нуждается в раскрытии этих законов.
Непрерывно растущие темпы строительства в нашей стране, технический прогресс в строительстве и промышленности строительных материалов, постоянная забота партии и правительства о нуждах трудящихся заставляют архитектора еще и еще раз пересмотреть свои творческие позиции. И в этом пересмотре не должно быть полумер. В журнале «Архитектура СССР» и других печатных органах несколько лет тому назад печатались статьи об унификации ордера, об ордере из крупных блоков, о наборе сборных элементов ордера. Мне эти статьи и предложения кажутся в корне неверными. Это — попытки удержать старые позиции в архитектуре, приспособить новый технический уровень строительства к старым архитектурным формам. Такое приспособленчество будет, с одной стороны, тормозить развитие строительства и его техники, а с другой стороны, — вносить эклектизм в архитектурное творчество.
У Дж. Свифта в «Путешествиях Гулливера» описаны бессмертные люди. Их жизнь протекала по общим человеческим законам. Юность сменялась зрелостью, к семидесяти годам они становились стариками, к ста годам наступало полное одряхление, а жить им нужно было вечно. И это было ужасно. Такую участь навязывают классическому ордеру его современные защитники.
Надо понять ордер. Ордерная архитектура, как правильно подчеркивает Г. Борисовский, оканчивает свое существование, уступая свое место новым архитектурным формам, которые будут соответствовать новым строительным материалам, новой строительной технике. Но остается ордер как система архитектурной композиции прекраснейших памятников прошлых времен, на которых мы учимся и на которых будут учиться еще многие поколения. Остается и всегда будет существовать ордер как результат применения знаний о законах пропорциональности, тектоники и гармонии форм в архитектуре.
Архитектурная печать, общественность, преподаватели архитектурных вузов должны помочь молодым архитекторам правильно уяснить вопрос об отношении современности к классическому ордеру.
Внешняя форма ордера отжила свой век. Внутренняя его сущность может и будет служить хорошим помощником советского архитектора.
Наши жилища, театры, музеи, выставочные павильоны должны отличаться от зданий прошлого не только своим демократическим содержанием, не только размерами и количеством этажей, но и новыми архитектурными формами. Не следует одевать новые здания в старую одежду ордера, подновлять эту одежду, проектируя «унифицированный ордер». Нужно искать новые архитектурные формы, которые должны быть рациональными, тектоничными, правдивыми и обязательно красивыми, должны быть выражением новых конструкций, материальных и эстетических требований нового общественного человека посредством новых композиционных приемов, новых стилевых черт. Это — задача почетная, трудная и интересная, и она должна быть разрешена.
А. Мардер
Вопрос о применении ордера в архитектуре современных зданий не лишен интереса и весьма актуален. Приходится сожалеть, что т. Борисовский не довел свои интересные мысли об ордере до некоторых практических выводов.
В своей творческой деятельности архитекторы, имеющие практический и жизненный опыт, сумеют разобраться и в каждом отдельном случае принять решение о необходимости применить ордер или полностью отказаться от него. Но как быть с огромной армией молодых кадров, которые еще только учатся и, следовательно, еще не имеют достаточного практического опыта, должны ли они получить познания об ордерной системе?
Ведь на основании последнего абзаца статьи Г. Борисовского, в котором он категорически заявляет, что ордера нет и не должно быть в наших новых проектах, некоторые методисты учебных заведений могут резко сократить и даже вовсе исключить изучение ордеров ее из учебных программ и тем самым нанести непоправимый ущерб делу эстетического воспитания молодых специалистов. Приведу пример. В учебной программе для строительных техникумов (утвержденной в 1956 г. Управлением учебными заведениями бывш. Министерства строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР) по специальности «ПГС» в теме 33 «Основные сведения об архитектуре зарубежных стран» мы читаем краткую аннотацию: «Влияние социально-политических условий на развитие архитектуры. Характерные черты архитектуры древнего Востока, Египта, Греции и Рима. Понятие о системе ордеров. Романская и готическая архитектура. Архитектура эпохи Возрождения, барокко и классицизм во Франции в XVII и XVIII веках. Архитектура эпохи капитализма и империализма. Эволюция объемно-планировочных решений зданий, архитектурных форм, конструкций и строительных материалов в рассматриваемые периоды». На весь этот раздел программой отведено... 8 учебных часов. Что это, недостаточное понимание вопроса или слабое представление об его объеме? По-видимому, и то и другое.
Не обсуждая содержания отдельных понятий указанной темы, их необходимости и последовательности в программе, хочется сказать, что для каждой темы в программе должно быть отведено предельно разумное количество времени. На основе многолетней практики я готов утверждать, что в данном случае для темы «Понятие о системе ордеров» следует отвести 10—12 часов и 18—20 часов — для краткого ознакомления с историей архитектуры будущих техников промышленного и гражданского строительства.
Вопросы применения классического ордера в архитектуре современных зданий и методики его изучения в учебных заведениях должны быть освещены на страницах журнала «Архитектура СССР».
Б. Грицевский
На обложке: Ордер классицизма
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: