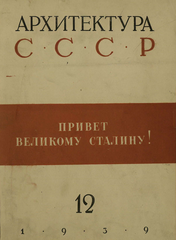Захаров — один из наиболее ярких мастеров русской архитектуры. Он широко известен своей крупнейшей, лучшей и единственно сохранившейся в натуре постройкой — зданием Адмиралтейства, одним из замечательнейших памятников мировой архитектуры. Но Адмиралтейство, как ни гениально это создание, не исчерпывает еще творчества Захарова во всей его широте. Изучение проектов Захарова позволяет глубже раскрыть образ этого замечательного зодчего. Захаров был архитектором, во многом опередившим свою эпоху. Многие проблемы, выдвинутые в его проектах, не утратили своей актуальности для нашего времени, но при жизни Захарова они были понятны лишь очень немногим.
Андреян Захаров
- Текст:Герман Давидович Гримм29 сентября 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Гениальный проектировщик соединялся в Захарове с блестящим графиком, умелым организатором проектной мастерской, опытным конструктором и строителем. Проектировка и строительство были дли него одинаково важными и одинаково близкими этапами одного процесса.
Андреян Дмитриевич Захаров родился 19 августа 1761 года в Петербурге, в семье мелкого служащего адмиралтейской коллегии. На шестом году жизни он был определен в училище, существовавшее тогда при Академик художеств. Получив последовательно все академические отличия, он 1 сентября 1782 года окончил академию с большой золотой медалью, дававшей право на заграничное пенсионерство. Позднее, осенью того же года, Захаров выехал вместе с тремя другими пенсионерами академии в Париж. После нескольких неудачных попыток найти себе там руководителя, который соответствовал бы его вкусом, он устраивается в мастерскую Жан-Франсуа Шальгрена, одного из наиболее видных и передовых французских архитекторов того времени, и проводит здесь все четыре года своего пенсионерства. Шальгрен сумел оценить дарование своего ученика. Это видно из его письма в академию, в котором он дает очень сочувственный отзыв о Захарове. Под руководством Шальгрена, Захаров выполнил проект, присланный им в академию в 1784 году. К сожалению, ни этого проекта, ни какой-либо другой работы Захарова во время его пенсионерства (также как и его академических работ) до нас не дошло, и мы лишены поэтому возможности проанализировать его первые шаги в области архитектуры. По возвращении в Россию, в 1786 году, Захаров получает знание «назначенного» на соискание степени академика. В 1787 году он привлекается преподавателем в академию.
Первый (по времени выполнения) из дошедших до нас проектов Захарова — это эскиз для торжественной декорации на заключение мира с Турцией, датированный 1792 годом. Обстоятельства заказа проекта остаются пока невыясненными. Этот проект настолько мало напоминает работы Захарова периода его расцвета, что может вызвать, на первый взгляд, даже известные сомнения в его авторстве. И только после более внимательного изучения становится очевидным, что в проекте уже есть элементы, встречающиеся в более поздних работах зодчего. За весь следующий большой период — с 1792 во 1805 год (когда Захаров приступает к проекту здания Адмиралтейства) до нас дошло очень небольшое количество работ. Это тем более досадно, что это были годы, когда окончательно складывался его стиль, получивший свое наивысшее воплощение в Адмиралтействе. По немногим дошедшим до нас материалам мы вынуждены лишь предположительно восстанавливать этапы этого сложнейшего процесса, что неизбежно приводит ко многим спорным положениям. Фактические данные о жизни Захарова за этот период также очень скудны. Известно, что Захаров продолжал свою педагогическую работу в академии, состоял там, кроме того, архитектором здания с 1794 по 1800 г., в 1800–1801 гг. работал городским архитектором Гатчины, а в 1802 году принимал участие в продолжительной поездке по России с целью выбора участков под военные училища. Из его построек и проектов этих лет следует особо выделить церковь при Александровской мануфактуре, проекты мавзолея Павлу I и цикл типовых проектов общественных зданий для губернских городов.
Церковь при Александровской мануфактуре имела очень сложную судьбу. Проект ее был утвержден в 1798 году, в 1801 году состоялась закладка, но работы очень скоро прекратились. Окончена постройка была только уже после смерти Захарова, в 1817–1826 гг. Изуродованная (особенно внутри) переделками второй половины XIX пека, церковь была разобрана в 1930 году. Отсутствие чертежей Захарова заставляет быть особенно осторожным в суждениях об этой постройке и дает возможность говорить лишь об основной схеме решении. В стилистическом отношении этот памятник представляет значительный интерес для характеристики развития творчества Захарова. В литературе была уже сделана вполне обоснованная попытка сравнить эту постройку с церковью Филипп дю Руль в Париже, построенной Шальгреном как раз в годы пребывания Захарова в его мастерской. Это указывает на значительное влияние Шальгрена на Захарова. Наряду с этим, невольно напрашивается сравнение церкви с одним из наиболее прославленных сооружений Франции середины XVIII века — с Пантеоном Суфло. Это здание, имевшее такое значение в развитии французской архитектуры того времени, произвело, несомненно, большое впечатление на Захарова. Церковь в селе Александровском указывает на тщательное изучение Захаровым парижского Пантеона. В этой постройке Захаров как бы подводит итоги своему увлечению архитектурой раннего французского классицизма с тем, чтобы в дальнейшем перейти к новым исканиям.
Большой интерес представляет проект мавзолея Павлу I. В конкурсе на проектирование этого мавзолея Захаров привял участие наряду с несколькими другими архитекторами. Детальное изучение сохранившихся чертежей (чертежи хранятся в Музее города и в Музее Академии художеств) позволило установить, что из всех приписывавшихся ранее Захарову вариантов на эту тему ему принадлежат фактически только два. Из них наибольший интерес представляет вариант в форме пирамиды, помещенной на высоком цоколе. Массив пирамиды мелко рустован и прорезан только несколькими окнами, помещенными в небольшой лоджии у вершины пирамиды. Вход подчеркнут греко-дорическим портиком. Переход от портика к массиву пирамиды решен двумя башнями. Внутреннее пространственное решение довольно сложное. К центральному помещению с четырех сторон примыкают большие ниши, перекрытые цилиндрическими сводами. Большим круглым отверстием помещение открыто в верхнее подкупольное пространство. Этот проект тоже отражает влияние на Захарова французской архитектуры, но уже несколько другого периода — периода исканий тех смелых новаторов 1780-х годов, идеи которых оказали большое влияние на развитие русской архитектуры начала XIX века. Это уже не тот, несколько подчеркнуто утонченный, изящный стиль Людовика XVI, в котором работали Габриэль и Суфло и с которым окончательно не мог порвать в эти годы и Шальгрен. Наоборот, здесь ощущается стремление к большой монументальной форме, которой смелые молодые новаторы готовы были подчас пожертвовать даже и рациональностью сооружения. Захаров сумел взять из этих исканий то большое и здоровое, что в них было, и, восприняв их на базе русского классицизма XVIII века, создать собственный развитой стиль. Проект мавзолея Павлу I представляет большой принципиальный интерес, так как он характеризует одни из важных этапов в окончательном определении творческой индивидуальности зодчего. Почти одновременно с этим проектом был разработай Захаровым цикл проектов типовых общественно-административных зданий для губернских и уездных городов. В числе их были проекты домов генерал-губернатора, гражданского губернатора, вице-губернатора, зданий «присутственных мест», «тюремного замка», «винного и соляного магазинов» и др. Местонахождение подлинных чертежей этого цикла пока не установлено, и только часть их удалось обнаружить в копиях. Препроводительным листом к одному из этих проектов служит, по-видимому, одни подлинный чертеж Захарова в собрании Музея Академии художеств, изображающий фасады какого-то здании. Сходство его с другими проектами из этого же цикла дает основание говорить о том, что автором этого чертежа был Захаров. На чертеже изображен главный фасад здания и три варианта бокового фасада. Плана не сохранилось. Если предыдущая работа характеризует увлечение Захарова французскими радикальными архитектурными идеями, то этот проект интересен, в первую очередь, тем, что показывает, как серьезно и глубоко подходил Захаров к строгому русскому классицизму конца XVIII века. Из этих двух моментов строго русского классицизма и новаторских радикальных идей Французского классицизма 1780-х и начала 1790-х годов и сложился развитой стиль Захарова. Процесс сложения этого стиля, насколько можно судить по известным ныне материалам, завершается в Адмиралтействе и нескольких циклах проектов, разработанных им по этому же ведомству.
6 июня 1805 года Захаров был утвержден «Главных Адмиралтейств архитектором». Начинается последний период его жизни, очень краткий по времени, но исключительно богатый творчески. В последние шесть лет жизни Захаровым созданы все его основные проекты, в том числе и проект Адмиралтейства. Можно сказать, что все его работы до этого времени, за весь почти 20-летний период, с момента возвращения из пенсионерской поездки, являются только подготовительным этапом к этим заключительным шести годам его жизни. Наряду с работой над проектом здания Адмиралтейства Захаров делает в эти годы десятки других проектов, очень разнообразных по тематике и масштабу сооружений: от планировки целых поселков и грандиозных морских провиантских складов до канатных сараев и небольших, чисто утилитарных построек.
Условия работы Захарова в Адмиралтействе были трудны и мучительны. Широкие замыслы Захарова наталкивались на сопротивление косной среды чиновников. Захарову досаждали мелкими интригами и сплетнями, всячески тормозили его работу. За каждую деталь, за каждый проект приходилось выдерживать ожесточенную борьбу, и, несмотря на все упорство и настойчивость Захарова, победа далеко не всегда оставалась за ним. Захаров сгорел на этой работе, и в его преждевременной смерти, вероятно, далеко не последнюю роль играли обстоятельства его службы в Адмиралтействе. И тем не менее, именно в этот последний период его жизни ему удалось создать очень много ценного.
***
Захарову не пришлось, как известно, строить здание Адмиралтейства заново. В его задачу входила капитальная реконструкции уже существовавшей постройки, восходившей в некоторых ее частях к самому началу XVIII вена — первым годам строительства города.
Согласно заданию и существовавшей в натуре постройке, в здании должны были быть совмещены производственные корпуса, доки для постройки судов и административные учреждения, ведавшие всеми речными и морскими силами страны. В соответствии с этим, здание состояло из двух, в известной мере независимых между собой, частей; внешнего, П-образного в плане корпуса, внутри которого находились два Г-образных корпуса, охватывавших связанную с ними производственную площадку. Внутренние корпуса была заняты корабельными чертежными, мастерскими, складами и т, д. Внешний корпус занимали во втором этаже помещения административных учреждений, библиотеки и залы Морского музея. Между корпусами приходил канал, по которому в склады, а отчасти и непосредственно в мастерские Адмиралтейства, доставлялась материалы для постройки и оснащения судов. Весь участок, на котором находилось Адмиралтейство, был каналами отделен от города. Таким образом, общая схема решения была подсказана существовавшей постройкой. Задачей Захарова было разработать и уточнить этот комплекс, привести его в стройную систему и дать ему единое, цельное внешнее оформление. Дошедший до нас проектный материал по Адмиралтейству позволяет выделить несколько этапов в процессе разработки проекта. Из предварительных вариантов до нас дошел один чертеж главного фасада. Хотя в общей схеме композиция уже идентична окончательному решению, но в деталях есть целый ряд очень существенных отличий. Захаров проектировал по этому варианту центральную башню более низкой, чем она была у Коробова, и более узкой, чем она существует в настоящее время. Другим существенным отличием этого варианта от осуществлённого является то, что все колоннады в здании намечались как трех четвертные, а не лоджиями в крыльях и на боковых фасадах и открытой колоннадой на башне, как это сделано в натуре.
Намечавшийся первоначально Захаровым мотив полуциркульных арок в нижних этажах соединительных частей крыльев был им уже в процессе проработки этого чертежа отброшен, как видно из варианта с окнами (т. е. идентичного осуществленному в натуре), изображенному на «ретомбах» в западном крыле. Следующий этап проекта дошел до нас в миниатюрных копиях, очень тщательных по выполнению, сохранившихся в двух совершенно одинаковых экземплярах. На этих копиях, помимо главного фасада, изображены боковой фасад и фасад павильона. Размеры и пропорции центральной башни по этому варианту сохранены те же, но, не считая возможным уменьшить существовавшую в натуре башню до необходимых размеров, Захаров показывает по сторонам новой башни два небольших выступа, соответствующие габаритам существовавшей постройки. Существенным принципиальным изменением является замена всех портиков из трехчетвертных колонн — лоджиями. Лоджии применены в этом варианте как в крыльях и на боковых фасадах, так и в колоннаде на башне под шпилем.
Переходя к боковым фасадам, следует прежде всего отметить, что по этому варианту оба фасада — восточный (т. е. выходящий в сторону б. Зимнего дворца) и западный (т. е. выходящий на площадь Декабристов) были предположены одинаковыми. Хотя по общей композиции они в принципе аналогичны выполненным в натуре, но большая длина их (почти на 20 м, или 4 окна) значительно изменяет общее впечатление. Соединительные части между центральным портиком и угловыми колоннадами имеют по этому варианту по 11 окон (против 9, существующих в натуре), равняясь, следовательно, соединительным частям на главном фасаде. В средних выступах нижнего этажа намечены полуциркульные ворота-проезды во внутренние дворы, на производственную площадку. Решения павильонов по этому варианту отличаются от выполненных лишь во второстепенных деталях. По этому варианту, по-видимому, и началась постройка.
В 1808 году, когда лицевой восточный корпус (выходящий к б. Зимнему дворцу) был уже вчерне закончен, Александр I нашел, что он слишком выступает вперед, закрывая вид из окна его кабинета на Неву, и потребовал переделки проекта. Захарову пришлось переработать проект, уменьшив длину корпуса почти на 20 м. Он произвел это путем сокращения соединительных частей на два окна в каждой и сместив центральный выступ на три оси колони от Невы. Это перемещение вызвало значительные трудности в решении первого этажа. Ворота, намечавшиеся Захаровым в центре выступа, оказались сбоку. Чтобы избежать этого, Захаров предложил три различных варианта решения. По одному из них он предлагал сохранить ворота, ответив им симметричной плоской нишей; по двум другим вариантам он отказывался от ворот совсем, заменяя их оконными проемами. Был выбран вариант с тремя проемами, точно так же, как на центральных выступах главного фасада. На основании этих изменений был составлен новый проект, сохранявшийся до нашего времени. На нём, помимо изменений боковых фасадов, внесено существенное изменение и в главный фасад — лоджии на центральной башне заменены открытыми колоннадами и ширина башни увеличена до ширины первоначальной Коробовской башни, что вызвало увеличение ее по высоте и соответственное изменение пропорций отдельных частей. Кроме того, был сделан ряд более мелких изменений.
Таковы важнейшие этапы разработки проекта Адмиралтейства, о которых мы можем ныне судить на основе сохранившихся чертежей. Самый характер основных изменений, внесенных Захаровым в процессе проработки проекта, представляет весьма значительный интерес. Остановимся на важнейшем, принципиальном вопросе о колоннадах. По первому варианту, как уже было указано, Захаров проектировал все колонны (и на башне, и в крыльях) трехчетвертными, потопленными в массиве стен. Между колоннадой на башне и колоннадами в крыльях и на боковых фасадах была разница в размерах, в ордере, но не в типе колонн, в их взаимоотношениях с поверхностью стены, на фоне которой они воспринимались. Недостаточная рельефность и выразительность таких колоннад заставила, по-видимому, Захарова отказаться от этого решения и заменить трехчетвертные колоннады лоджиями, так что только пары угловых колонн оказалось частично потопленными в стене, а остальные колонны — полными.
Лоджии Адмиралтейства имеют свой специфический характер. Они не заглублены в массив здания, что неизбежно приводит к впечатлению известной ослабленности объема здания, а вынесены из здания на специальных выступах первого этажа. Угловые массивы их — это стена, выдвинутая вперед, еще более усиливающая общее впечатление силы и мощности. Не колоннады, заглубленные в объем здания, а массивы стен, вынесенные вперед и укрепляющие портики — такова основная идея этих лоджий, намеченная уже во втором из рассмотренных нами вариантов и осуществленная по этому приему в крыльях и на боковых фасадах. Этим достигается значительно больший рельеф, интенсивность тени, контраст близкой освещенной плоскости стены по сторонам и глубокой тени в середине. Захаров применял в этом варианте также лоджии во всех колоннадах, — и в башне, и в крыльях. Между тем роль их, конечно, различна. Поэтому в окончательном варианте 1808 года он, сохранял лоджии в крыльях, заменил их на башне открытыми колоннадами. Таким образом, легкость решения колоннад башни чувствовалась лучше при сопоставлении с массивными лоджиями крыльев.
***
Не останавливаясь здесь на рассмотрении отдельных этапов постройки здания, а также на искажениях этой постройки в XIX веке, перейдем к общему обзору композиции сооружения.
Наружный корпус Адмиралтейства является чрезвычайно показательным примером четкого подхода Захарова к композиции и прежде всего к решению объемов и основных масс. Все здание подразделено на отдельные, четко выявленные массивы и как бы сложно из отдельных объемов. Со стороны главного фасада Адмиралтейство состоит из пяти основных частей; центральной башни с ее почти кубическим основанием, двух крыльев, построенных по трехосной схеме, и соединительных частей между башней и крыльями. Крылья в свою очередь также подразделяются на пять основных элементов — центральный выступ, отмеченный 12-колонпым портиком с фронтоном, два угловых выступа с 6-колонными лоджиями и части, связывающие их с центральным портиком. По тому же принципу построены боковые фасады. Здесь применены те же основные элементы, как и в главном фасаде.
Павильоны на Неву построены из двух 6-колонных портиков и центрального массива с аркой. Все эти элементы, из которых «сложено» здание, трактованы подчеркнуто объемно. Это не выступы фасада, а отдельные массивы. Захаров достигает этого впечатлении как значительным выносом отдельных элементов против основной массы, так и рядом других приемов. Так, он подчеркнуто различно обрабатывает фасады отдельных массивов; вертикальной разбивке выступающих частей оп противопоставляет нейтрально трактованные западающие элементы, в наиболее значительных на которых были введены еще широкие, горизонтально подчеркнутые фризы (на месте ныне существующих окон третьего этажа). Гладкие стены цокольного этажа выступающих частей противостоят рустованным в западающих. Захаров разрывает линию венчающего карниза на главном фасаде, опуская карниз соединительных частей до уровня архитрава основных элементов башни и крыльев. Чрезвычайно показательны в этом отношении также и решения углов здания. Захаров трактует их массивными, почти кубическими башнями. Благодаря применению лоджий, а не открытых колонн на углах, не получается ослабляющего просвета между стеной и первой колонной, и вместо «стыка» двух независимых друг от друга колоннад, принадлежащих двум разным фасадам, на углах образуются цельные мощные, приземистые «башни». Этот мотив применен в здании в шести местах, во всех выступающих углах здания.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что для Захарова решение архитектурной задачи есть прежде всего решение объемов, и композиция их уже предопределяет дальнейшую разработку фасадных поверхностей. Фасадное решение настолько неразрывно связано с объемным, что противопоставление объемов немедленно ведет к иной трактовке соответствующих элементов фасада. В обработке фасада последовательно вскрываются и уточняются те основные предпосылки, которые заложены в общем решении объемной композиции.
Ордер, притом ордер строго канонического типа, имеет в Адмиралтействе, как и во всех основных работах Захарова, решающее значение основного масштаба композиции. Он предопределяет всю высотную разбивку фасадов. Первый этаж трактован как цоколь-пьедестал, два верхних связаны колоннами, венчающий антаблемент которых есть, вместе с тем, и венчающий антаблемент всего здания.
Венчающему, главному корпусу здания, его парадной торжественности Захаров противопоставляет деловую простоту скромных и более низких внутренних корпусов. Он сохраняет здесь существовавшие фасады, в их основной части, ограничиваясь двумя небольшими пристройками. Мастерской обработкой этих пристроек, павильонами на Неву и центральной башней, видневшейся в разрыве между двумя внутренними корпусами, Захаров в корне изменяет общее впечатление от этих зданий. Старые стены стали лишь фоном, на котором воспринимались эти основные моменты. Тесно связанные с производственной площадкой, эти внутренние корпуса всей своей скромной и деловой обработкой подчеркивали строгую пышность внешнего здания.
Касаясь вопроса о роли скульптуры в Адмиралтействе, следует отметить, что Захаров развивает применение ее в целую строгую систему, в которой место, занимаемое отдельными скульптурными элементами в целом архитектурном образе, предопределяет их тематику и форму. В зависимости от конкретного места, которое занимает скульптура, решается ее форма, рельеф, содержание. Остановимся на скульптурах центральной башни. Над парапетом верхней площадки помещены свободно стоящие фигуры в легких одеждах. Они воспринимаются на фойе неба у завершающего всю композицию шпиля. Ниже, у основания башни, по углом аттика находятся фигуры четырех «героев» (определение самого Захарова в его описании скульптур на Адмиралтействе), изображенных сидящими, в латах, опирающимися на свои доспехи. Далее, еще ниже, идет рельеф, изображающий «заведение флота в России». Он врезан в нишу простого прямоугольного контура, сглаживающую высокий рельеф скульптур, почти не выступающих поэтому из основной плоскости стены. Над аркой, в нижнем основном массиве банши, помещены изображения «побед», скрестивших знамена, — они даны очень высоким рельефом и резко выступают из плоскости стены, как бы свободно скользят по ней, не нарушая ее. Еще ниже, в наиболее загруженной части башни, у пилонов, скульптуры трех «морских нимф, несущих глобусы», уже целиком выделены из плоскости стены. Они связаны с ней только взаимоотношением их силуэтов и той плоскости, на фоне которой они воспринимаются, а также пьедесталом, объединенным в одно целое с цоколем здания. Эта мощные фигуры кариатид, сгибающихся под тяжестью поддерживаемых ими шаров, усиливают впечатление тяжести и грузной напряженности пилонов башни. Глядя на расположение скульптур сверху донизу, мы убеждаемся, как постепенно, по мере приближения к земле, они все более выходят из поверхности стены. Своей тематикой они характеризуют лежащие за ними части массива. Они помогают, таким образом, раскрыть замысел автора, переводя образ, выраженный соотношением масс, на более доступный язык пластических форм. Не менее показателей прием решения арматурного фриза, проходившего на месте существующих ныне окон третьего этажа. Этот фриз трактован изображениями отдельных конкретики предметов — военных арматур. Зритель может мысленно как бы разобрать их и найти под ними ненарушенную гладь степы. Высокий рельеф, четкость контуров изображенных предметов и ясная композиция позволяют, не нарушая плоскости степы, подчеркнуть ее гладкую поверхность. Никогда просто пустая степа не производит впечатления такой силы, как в том случае, когда она подчеркнута рельефом или скульптурой. В больших отрезках фриза (в соединительных частях на главном и боковых фасадах) Захаров решал композицию в виде отрезков бесконечной ленты, не выделяя отдельных моментов. В небольших отрезках того же фриза, помещенных между колоннами у лоджий, он, наоборот, вводит центральный элемент, в виде панциря или щита.
Такова в общих чертах система скульптурных и рельефных композиций на Адмиралтействе, оказавшая большое влияние на дальнейшее развитие русской архитектуры.
Не останавливаясь здесь на внутренних отделках Адмиралтейства, отметим только, что того глубоко цельного впечатления, которое производит Адмиралтейство своим внешним обликом, внутренние отделки, во всяком случае, не дают. Отдельные замечательные куски — как большая парадная лестница — одиноки среди других недоделанных, испорченных при выполнении и изуродованных позднейшими ремонтами и переделками композиций.
***
Здание Адмиралтейства — это крупнейшая и единственная, сохранявшаяся в натуре постройка Захарова. В процессе создания Адмиралтейства Захаров окончательно нашел свой стиль. В других своих работах по адмиралтейскому департаменту он уже расширяет и разрабатывает те положения, которые были в наиболее четкой форме выражены им в Адмиралтействе.
Среди этих работ наиболее существенны два больщих цикла проектов для Петербурга: реконструкция Провиантского острова и планировка Галерного порта. Провиантским островом назывался небольшой остров, расположенный на Неве против Горного института. К тому времени, когда Захаров приступал к работам на острове, здесь находились два больших здания провиантских складов, расположенные вдоль берега Невы, в ряд бессистемно разбросанных во всей территории острова случайных построек. Судя по сохранившимся проектным чертежам (в натуре от всего этого проекта, по-видимому, ничего не было выполнено, во всяком случае, основные работы, несомненно, остались даже неначатыми), Захаров прежде всего предполагал провести планировку всего острова, а затем переделать фасады провиантских складов, наиболее видного сооружения всего комплекса, и построить новое здание адмиралтейских конюшен. Проектировавшейся им прокладкой системы улиц-дорог Захаров добивается, при сравнительно небольших переделках, рациональной и четкой планировки всего островка. Архитектурно наиболее значительным моментом всей застройки должны были быть провиантские склады — после Адмиралтейства едва ли не самая интересная из работ Захарова. По этому проекту, Захаров предполагал сохранить существовавшие два корпуса зданий в их основных массах, изменяя радикально лишь внешний облик. Задача осложнилась тем, что корпуса складов были неравные по величине (одни около 210, другой около 80 м длины), причем больший из них имел перелом в соответствии с линией берега, с соотношением сторон 1:2, Захаров решает больший корпус главных:, центральный и проектирует пристройку в его крыльях двух выступов. Повторяя этот второстепенный мотив главного корпуса в центре бокового, он тем самым подчеркивает подчиненное значение последнего. Центр главного здания отмечен большим фронтоном. Излом здания главного корпуса по длине Захаров в своем решении игнорировал.
Провиантские склады — блестящий пример того, как Захаров, связанный существовавшим в натуре зданием, сумел даже из чисто утилитарного сооружения создать исключительное по значимости архитектурное произведение. Здание складов рассчитано на масштаб Невы. Если бы оно было выполнено, оно должно было бы служить вместе с расположенным на другом берегу Горным институтом своего рода пропилеями при въезде в город. Несомненно, на это и рассчитывал Захаров. Перед зданием он проектировал устройство монументальной гранитной набережной с террасами и монументальными нишами с фонтанами.
Другой, не менее значительной работой Захарова был проект перепланировки Главного гребного порта, расположенного в конце Васильевского острова, у взморья. Этот проект в своей основной части также остался невыполненным, и о всем замысле можно судить ныне только по сохранившимся чертежам. Весь комплекс сооружений распадался на две части — производственный сектор, занимавший северную часть территории, и жилой район, отделенный от него широкой полосой зеленых насаждений. В процессе проработки проекта Захаров неоднократно изменял производственный район, сохраняя планировку жилого без принципиальных изменений. По утвержденному варианту, производственный район состоял из системы каналов и бассейнов, в которых производился ремонт и постройка судов. Вдоль берегов их были расположены сараи, производственные мастерские, склады и т. д. Весь участок был обнесен рвом и каналом. Особый интерес представляет планировка жилого поселка при порте. Полоса зеленых насаждений («роща с просеками», по определению Захарова), отделявшая производственный район от жилого, была изогнута по дуге, по форме большой площади, вдоль которой располагались административные учреждения и госпиталь. Далее от площади шли три улицы, из которых средняя была наиболее широкой. Они образовывали два квартала зданий. Вдоль берега Захаров проектировал сплошную засадку деревьями в четыре ряда. В каждом из двух больших кварталов, образовывавшихся этими улицами, располагалось по 13 жилых домов, около которых группировались служебные постройки. Характерно, что все здания трактовались Захаровым независимыми объемами с разрывами между ними. Улицы заканчивались у второй большой площади, прямоугольной в плане, огражденной двумя рядами бульваров с собором в центре.
Таким образом, в основе решения лежала следующая схема: 1) дне площади — соборная и административная, связанные тремя параллельными улицами, между которыми расположены жилые кварталы, и 2) отдельные здания, распределенные по кварталам так, что их габариты оказывались независимыми от формы и направления улиц, которым были подчинены только общие силуэты кварталов.
Этот проект интересно сопоставить с другой работой Захарова тех же лет — проектом поселка в Гатчине. Из целого цикла чертежей по этому проекту, находившихся на «Исторической выставке архитектуры» в 1911 году, сохранился в фотоснимке только один генеральный план. Вокруг большой полуциркульной площади, центр которой образует объем церкви, располагаются веерообразно, торцами к центру, 11 жилых домов. Здесь, как и в проекте Гребного порта, принята простая геометрическая схема с четким центральным мотивом и расположение зданий отдельными объемами на участках, причем формы зданий не подчинены габаритам площади и проездов, а свободно располагаются на участках.
Гатчинский поселок — наиболее значительный проект Захарова, выполненный им в период 1805–1811 гг. уже не для адмиралтейского департамента. По департаменту он также выполнил целый ряд работ для окрестностей Петербурга и провинции.
Таковы госпитали в Архангельске и Херсоне, собор в Кронштадте, канатные сараи в Архангельске, мелкие утилитарные сооружения (кузницы, хлебопекарни, бани и т, д.) в Роченсальме и Вильманстранде.
Занимаясь практической деятельностью, Захаров не оставлял и педагогической работы в академии, где он был профессором (с 1797 года) и старшим профессором архитектуры (с 1802 года). В обстановке этой кипучей деятельности Захаров скоропостижно скончался 8 сентября 1811 года, не успев завершить ни одного из задуманных им больших замыслов.
***
При рассмотрении ранних работ Захарова, было уже отмечено два основных фактора, влиявших на его развитой стиль — русский строгий классицизм и радикальные искания французских новаторов 1780–1790 гг. От каждого из этих направлений Захаров взял их наиболее сильные, здоровые элементы. Из русского строгого классицизма Захаров взял характерные для него четкость в решении объемов, ответственное отношение к ордеру, как основному масштабу, применение строго канонических типов ордеров. Из французского классицизма Захаров воспринял смелое введение новых форм и самый характер композиционных приемов. На основе своего самостоятельного и исключительного дарования он переработал эти приемы в единый стиль и широко разработал вопросы синтеза скульптуры и архитектуры. Творчество Захарова оказало очень большое влияние на все дальнейшее развитие русской архитектуры. Крупнейший представитель следующего этапа — Росси заимствовал от Захарова почти целиком его систему скульптурно-орнаментальных композиций. Непосредственное воздействие захаровских приемов испытал и Стасов, повторивший, например, в колокольне в Грузине общий прием решения колокольни Кронштадтского собора.
Творчество Захарова, оказавшее столь сильное влияние на развитие русской архитектуры его времени, не утратило своего значения и до наших дней. Ряд проблем, широко поставленных Захаровым в его проектах, — планировка целых поселков, внимание к утилитарным сооружениям, умение бережно реконструировать старые сооружения, сохраняя их наиболее художественно ценные части, вопросы планировки производственной площадки, вопросы синтеза скульптуры и архитектуры — сохранили свою актуальность и значимость и в нашу эпоху. Это говорит о том, что углубленное изучение творчества Захарова может принести большую пользу нашим советским архитекторам.
На обложке: картина «Адмиралтейство», Русанова А. П.
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: