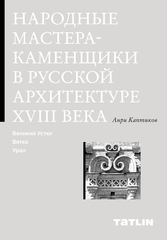Анри Каптиков, кандидат искусствоведения, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета, в книге «Народные мастера — каменщики в русской архитектуре XVIII века: Великий Устюг, Вятка, Урал» представляет итог своей полувековой научной деятельности. В одной из частей книги автор делится своими воспоминаниями о том, как он знакомился с архитектурой. Глава, первую часть из которой мы публикуем, повествует об опыте исследования Каптиковым зодчества русского севера.
Зодчество русского севера

- Текст:Анри Каптиков5 июня 2024
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
Не все знают, что на главной площади старого Екатеринбурга, нынешней площади 1905 года, стоял Кафедральный (Богоявленский) собор. И уж почти никому не ведомо, что строили его устюжане — мастера из северорусского города Великого Устюга.
***
Увлекшись со второго курса Древней Русью, намечая, куда съездить, я вычитывал и про Устюг. Добраться туда представлялось непросто, и начал я со средней полосы России. Но вот в августе 1967 года двинулся и на Север. Помню, сколь тщательно, с каким предвкушением изучал перед этим в Белинке книжку П. А. Тельтевского «Великий Устюг» и путеводитель по Северной Двине.
…Еду через Киров. Сколько потом я ездил в поезде Киров — Котлас, и туда и обратно, не счесть! Слева, между невзрачными домишками и громадой элеватора, в лучах восходящего солнца блеснула Двина. Станция Котлас-Южный. Позднее П. А. Тельтевский с ревностью патриота-устюжанина в разговоре со мной обзовет Котлас гнусным. Действительно, при отдельных солидных зданиях вроде бывшего Управления Печорской железной дороги, застройка беспорядочная, спецпереселенческая. На только-только формировавшемся подобии городской площади новому горсовету и большому синему дому, сооруженному речниками, еще противостояли бараки. Однако часть Котласа между сталинским железнодорожным и 1970-х годов элегантным речным вокзалами всегда настраивала как-то бодряще, и свежим ветром с реки, и снующим народом. А вид вдаль дух захватывал. Сидишь, бывало, над обрывом на лавочке, смотришь на летний закат, на поворот Двины, за которым она, приняв Вычегду, величаво течет к Архангельску, и мысленно летишь до самого Белого моря. Рядом напоминание о древней истории Котласа, знавшего еще Стефана Пермского, — церковь в честь великого подвижника, просветителя коми-зырян [1].
Но — в Устюг! Не по реке, а сначала опять поездом. …Котлас-Узловой, где локомотив переприцепляют. Мост. У станции Ядриха дожидаются два автобуса-пазика, которые мигом набиваются. Всю дорогу приходится стоять. Пыль. Какие-то селения с босыми ребятишками. Наконец, въезжаем. Сразу узнаю вблизи маковки Михаило-Архангельского монастыря. Спускаюсь на Советский проспект. Честно говоря, для начала зашел в столовую, хотя в поездках тех времен я редко ел больше раза в день.
Иду по проспекту, тянущемуся параллельно Сухоне. Слева, в сквере, показываются Преображенские церкви, летняя и зимняя; не доходя моста — дивное узорочье Вознесенского храма; озерко, отражающее валы Городища, и характерное пятиглавие Мироносицкой церкви. Она для меня важна, ибо наличники аналогичны уральским (Соликамск, Верхотурье). Потом сворачиваю в квартал с барочными особняками купцов-первопроходцев и Георгиевской церковью — такой милой среди огородов и подсолнухов. За неполный день осмотрел почти все. Даже переправился в Дымково на катерке с тарахтящим тракторным мотором. Там, думаю, и искупаюсь, испытав, каково бороться с течением Сухоны. Увлекшись, не подумал, когда последний автобус на Ядриху. Подхожу — уже ушел. Хорошо, мужик подвез на «Волге». Бессонная ночь в Котласе. С пристани в пять утра отправляюсь в Сольвычегодск. Затем я долго питался впечатлениями от этой поездки, демонстрировал слайды.
Вторично увидел Север в 1970-м, после своего первого преподавательского учебного года, со студентом и другом Андреем Красильниковым (впоследствии — зам. главного архитектора г. Калинина), опять в Котлас. Устюг оставили в стороне, но благодаря любезности священника налюбовались иконостасом сольвычегодского Введенского собора. Затем отплыли в Архангельск. Как мне знакомы все четыре теплохода этой линии: «Пинега», «Олёкма», «Неман», «Индигирка»! После Архангельска были Соловки, ко множеству восторженных описаний которых воздержусь что-либо добавлять.
***
Мне всегда хотелось не хрестоматийного. Несколько лет держал в уме Лальск: этот городишко (ныне поселок на севере Кировской области) повстречался, правда, без картинок, на страницах «Известий Императорской археологической комиссии». В 1967-м, когда проездом, по дороге в Устюг, был в Кирове, в Управлении культуры мне показали кое-какие материалы. Я понял, как значительны лальские памятники. Хотели было даже меня к ним послать (мой ленинградский «студик» вызывал уважение). Но ни тогда, ни в сентябре 1969 года, хотя был уже на пути, я туда не попал.
Сбылась давняя мечта в 1972-м: в компании Саши Копысова и нынешнего доцента УрГАХУ Серёжи Бойцова в июльскую жару я познакомился с Лальском. Ходил по его деревянным тротуарам. Насмотрелся из-за Лалы на соборный ансамбль под грохот въезжавших на бревна моста лесовозов. Это было первое соприкосновение с устюжской периферией. Как она дополняет региональный центр! Ведь Воскресенский собор в Лальске и общим видом, и деталями лишь отчасти схож с памятниками Устюга. Нет в них ни восьмерикового придела, да еще с широким восьмериком, ни непрерывного изразцового фриза. Венчающие восьмерики другого лальского собора — Благовещенского, конечно, типично устюжские, но, право, стройнее. Из Лальска в Устюг мы поехали не через Котлас, а на автобусе межобластного сообщения. Прибыл он в поселок, называющийся, как станция близ Свердловска, Кузино. Оттуда на катерке — в город, мимо древнего Гледена…
***
На следующий год в сопровождении Серёжи Бойцова я вновь оказался в Устюге. Повидались с отдыхавшим у родных П. А. Тельтевским, моим шефом по аспирантуре, и улетели в Тотьму. Здесь я столкнулся уже не с ответвлением устюжской, а с самостоятельной, пускай и обязанной Устюгу школой. Бескомпромиссный вертикализм, пятиглавия из восьмериков… Ну а картуши то каковы!
***
После Устюга и Тотьмы (хорошо, что после) Вологда показалась чересчур разнохарактерной. На школу, как говорится, не тянет. А Кириллов монастырь — явление, наоборот, своеобразное, но не моя эпоха, почти все — до XVIII века. Вот такие вкратце возникали соображения. Однако занимался я в ту пору Уралом. Исторические соседи нужны были разве что для сопоставлений, и лишь после защиты диссертации в 1976 году можно было идти вглубь и вширь.
Все же еще два сезона я ограничивался любованием. В прелести северного лета и белых ночей представали деревянные церкви по Двине: в Заостровье, Сельце, Зачачье. В 1978-м на едином дыхании совершил 40-километровый пеший с четырьмя переправами марш-бросок в Верхнюю Уфтюгу [2]. В Устюге решилась проблема с размещением. Трудно поверить, но меня с практикантами окликнула на улице у Михаило-Архангельского монастыря старушка, оказавшаяся заведующей турбазой гороно, и сама предложила целый верхний этаж каменного купеческого дома. С тех пор мы и останавливались там, на улице Красной, 89. Бывало, еще весной нам присылали приглашения, окружали всяческой заботой. Первые годы жили вообще бесплатно, потом, в канун перестройки, за символическую плату — 50 коп. в сутки с человека. Гуляли по городу и окрестностям, часто захаживали на Гледен. Это была сплошная поэзия. …Тропка шла по обширнейшему пойменному лугу. Все ближе подступал пологий холм с утопающими в кронах деревьев скромными монастырскими строениями. На склоне у стен паслись лошади…
За эти сезоны сложились традиции комплектования группы. Отправлялись в экспедицию (она же обмерочная и пленэрная практика) обычно ввосьмером: четверо мальчиков, включая меня, тогда достаточно молодого, и четверо девочек. Была система персональной опеки и даже фиксированные типы-амплуа: Боб — наш завхоз, тягловая сила; Мальвина, чья роль была, понятно, сугубо декоративной, а положение весьма привилегированным, а еще Снежана, Пацанка…
***
Однако пора было мне из очарованного странника вновь превращаться в исследователя, причем не архитектуры самого Устюга — к тому времени вышла сильно превзошедшая
П. А. Тельтевского книга В. П. Шильниковской. Моя цель была, показать город как «рассадник искусства» (выражение И. Грабаря), как центр региональной школы — одной из сложившихся на Сибирском торговом пути, контактировавшей с Вяткой, Уралом, Тобольском, и, главное, осветить то, что на периферии Устюга, почти никем еще не изучалось.
Для этого требовался, в первую очередь, список объектов. Таковой содержали выпуски «Известий Императорской археологической комиссии», но на современной карте подавляющее большинство перечисленных сел и погостов не значились, в том числе те, которые так манили, между Котласом и Устюгом.
Проплывая мимо на «Заре», насчитал шесть или семь мелькавших прибрежных храмов, а что за населенные пункты — неизвестно. Да и живет ли там кто? Поди, давно сселили (почти так потом и оказалось). Писал П. А. Тельтевскому, но тот упрямо отмалчивался — не те стали наши отношения. Тогда вспомнил свой уральский опыт еще в бытность студентом — обращение с запросами на места, и вновь сработало. В конце 1978-го получил ответ из Великоустюжского краеведческого музея. Научный сотрудник (с которым, сожалею, так и не встречался лично), Е. Г. Довбня, перечислила больше десятка объектов с указанием административно-территориальной принадлежности. Ответы пришли из Яренска, Усть-Выми, других музеев и сельсоветов. Источником информации был также наш довольно колоритный студент Саша Савин по кличке «Мустангер» со станции Лунданка под Лузой. Я называл ему кое-какие села, а он, улыбаясь, переставлял ударения: знаю, мол, бывал. В общем, оставалось только составлять маршруты. По-серьезному начал с вычегодского ареала как ближайшего к Уралу, тем паче поддерживал меня незабвенный создатель программы «Каменный пояс» Г. С. Заикин, считавший Усть-Вымь, Усть-Ижму, Усть-Цильму нашими.
***
1 июля 1979 года мы вылетели в Сыктывкар. Вечером, сойдя с поезда в Усть-Выми, увидели в лучах заходящего солнца высокий зеленый холм. Говорят, он насыпан искусственно чуть ли не во времена Стефана Пермского, кому Усть-Вымь служила опорным пунктом. На холме — церковь его имени. Простая и лаконичная, она ассоциировалась с такими же храмами Чердынского края. Потом выяснилось, что по склону холма спускалась длинная входная галерея. Как жаль, что из четырех местных церквей остались только две, да и вторую, Михаило-Архангельскую (вернее, что от нее уцелело), самобытной уже не назовешь.
Яренск, когда-то уездный город, находится несколько в стороне от Вычегды. Там — превосходной сохранности, вплоть до иконостаса, Спасо-Преображенский собор. Его наличники с чем-то вроде язычков пламени всколыхнули в памяти Спасскую церковь в далеком Тобольске. В соборе — краеведческий музей (сейчас, небось, выселили?!). Сотрудники, как и большинство яренчан (нигде, пожалуй, не наблюдал подобного), и в рабочие часы навеселе: пьют в открытую. К счастью, один, пока не утянутый коллегами, дает посмотреть альбом своих снимков, так что по памятникам района сориентировался.
Пока брожу по Яренску, наблюдаю: валы — острожные осыпи; ампирное здание банка, наверное, единственное тут гражданское каменное; заросшее кладбище; несмотря на жару, рой комаров. У ребят в гостинице утоляю жажду холодной водой с Мальвининым сиропом. Утренняя «Заря» отправляется. В Ирте выходит Лёша Потапов — ему поручено там поснимать и со следующим теплоходом присоединиться к нам. Мы же плывем дальше, до остановки Вожем. Храм, объемным построением устюжский, привлекает внимание тем, как соединен с колокольней: посредством перехода на арке. В Устюге это было, возможно, единожды, а на периферии встречал еще массу вариантов. На противоположном, левом, берегу над лесом маячит восьмерик с главкой. Это погост Цилиба. Абориген, как мы между собой называли местных, сажает в моторку. Подъем по глине среди густого темного ельника.
 Климковка. Заводская плотина, 1976
Климковка. Заводская плотина, 1976
Внезапно выход на свет, открытое пространство и вытянутый двухэтажный храм «кораблем». И длина, и большой восьмерик не совсем в духе Устюга. Откуда взял образец заказчик, яренский купец Осколков? Не прямо ли из Москвы? Во всяком случае, датировка 1783-м неверна. На 70 лет раньше! Красота неописуемая — и церкви [3], и пейзажа. Потапова в подошедшей сверху «Заре» нет. Мчимся по Вычегде. Столько интересного: почти в каждом селе храмы, то с барочными куполами, то, как в Ошлапье, с классицистическими портиками. Но мне не до архитектуры — куда практикант пропал?! Пришлось дожидаться в Котласе. На другой день явился, и то с задержкой — захотел по пути посмотреть Сольвычегодск. Кстати, та экспедиция, самая многолюдная (10 участников), вообще изобиловала недисциплинированностью и происшествиями.
Несколько дней погостили у бабок нашей студентки Тани Федотовой в селе Евда под Красноборском. Делали выезды в райцентр, где когда-то существовал храм якобы по проекту Баженова (чушь, конечно!), на дачу художника Борисова, ученика Куинджи (санаторий «Солониха»), в Пермогорье, знакомое мне еще по 1972-му. А в одиночку направился я в Туровец, по дороге заехав в Телегово, — тут был монастырь, подчиненный Соловецкому. Позже попался снимок его храма постройки 1743 года не только пятиглавого, что тогда во всей устюжской школе исчезло, но и (не диво ли!) с треугольными кокошниками в характере XVI века. Вот какие на Севере возможны были архаизмы.
Туровец поразил мрачностью. Какой-то ландшафт «Соловья-разбойника» или «Иван-царевича на сером волке»: хвойный, без дубов, с буераками. Под стать ему суровые старухи, точно из коринской «Руси уходящей». Встретили было враждебно, но я сумел-таки найти общий язык — под конец даже спрашивали, кому посоветую жаловаться на прижим властей. Что касается двух храмов погоста, то деревянный с устюжским малым восьмериком — лишнее доказательство, что в XVIII столетии уже каменные формы влияли на дерево, а не наоборот.
Из Евды перебрались в Устюг. От деревенского козьего молока прихварывал живот, но я взялся-таки за объекты между Устюгом и Котласом. В салоне «Зари» благоухала клубника — везли на базар устюжанки. Теплоход ткнулся в край Вотлажемского луга. А у кромки коренного берега царственно, на фоне неба возвышался храм. Вернулся довольный, а мне сообщают: четверо спутников самовольно «слиняли» в Свердловск. Видите ли, не терпелось отвезти купленные в яренском универмаге престижные портфели-дипломаты! Вынужден был возвращаться. Программа осталась незавершенной.
***
Восполнить вычегодские пробелы и добавить лузский ареал должна была практика 1980 года, но на ее начало я запланировал радиальные маршруты из Котласа. Благо заведующий отделом культуры райисполкома А. В. Мареев и председательница местного ВООПиК навели на памятники. Более того, Мареев сказал: «Не отмечу командировки, пока не объездите и не скажете, что у нас самое ценное!» И мы славно поработали. Были обмерены церкви в Комарице, Ярокурье [4] (более известном у котлашан как Алексино), Вондокурье. Как и многие другие северные храмы, они пустовали, но в пустоте внутреннего пространства — некая торжественная тишина. Добавлю, что в отличие, например, от Урала, интерьеры были неоскверненные и сохранили фрески. Поистине «храм оставленный — все храм…». Затем, вторично была вычегодская глушь. Разбили бивак около Вожема и обследовали округу. Лена — не только великая сибирская река, но и село, в честь которого назван район Архангельской области. Правда, церкви в Лене маловыразительны. Зато в Ирте бросился в глаза уникальный наличник, волнистостью контуров похожий на иконостасную резьбу.
Туглим. От этого села, славившегося в старину пушными ярмарками, осталось всего две обитаемых избы и каменная церковь, не считая Сольвычегодска, самая ранняя в ареале (1710), с изразцами устюжского, конечно, дела, образующими здесь широкий пояс да еще и рамку алтарного окна. Нынешний руководитель художественно-постановочной части нашего оперного Михаил Павлович Данюшкин помнит, как мы обмеряли ее белой ночью и как в Шаровицах в ожидании теплохода заваривали чай с лепестками шиповника. В дороге погода испортилась: пока сходили в Котласе в кафе «Северянка» и на последний киносеанс, помнится, на фантастический боевик (по тем временам, конечно) о пилоте Пирксе, полил дождь. Наутро в Устюге ненастье. Отлеживаемся на турбазе, скучаем. Потом выдался один ясный день, использованный мной с максимальной отдачей. С утра съездил в Благовещенье: убедился, что у местных двухэтажных церквей верхний храм, коли есть полуглавие, бывает и с одним рядом окон.
Навестив загоравших на городском пляже спутников, опять отправился на автостанцию. Спрашиваю остановку «Птицефабрика», аборигены смеются: к курам, мол? Но меня ждут остатки архиерейской дачи: прудик, изрядно развалившаяся Тихвинская церковь со столичными барочными наличниками. Вот откуда, а также с известного храма Симеона Столпника, перешли они в епархию… Нокшино. Бобровниково. Низкие стены, но вытянутый свод и два продолговатых восьмерика. Нравятся мне такие намеренные диспропорции.
Следующее утро вроде оказалось неплохим. С Данюшкиным и Галей Щербак направились за реку, в Шемогодскую волость, к памятнику, иллюстрирующему, подобно Стефановская церковь в Котласе, затяжной процесс перехода местного зодчества к классицизму. Наличники нижнего этажа — совсем древнерусские, а над четвериком верхнего — треугольные фронтоны выведены, да и взамен восьмериков — круглый барабан. Тоже весьма любопытно. Но еще на подходах начинается дождь. Весь обратный путь мокнем. Через огромные лужи Данюшкин галантно переносит свою подопечную на плечах. Возвратившись, забегаем в продуктовый, что внизу нашего дома, за бутылкой коньяка — надо срочно согреться. Ненастье продолжается. Ехать в Лузу безнадежно. Скрепя сердцем, решаю экспедицию прекратить.
Не прошло и трех недель, как еду-таки на Лузу с участниками прошлогодней практики: Потаповым, Олей Даниловцевой и Лией Муратовой! В поезде сообщаю им о смерти Владимира Высоцкого — не верят. Деловая часть путешествия заняла всего четыре дня, но каких результативных! Сперва была Слобода — деревня жилая, но странно безмолвная. Церковь с ярусной восьмигранной колокольней смотрится в озеро. Чудно было ее снимать, катаясь на плотике. Второй день был самый ответственный: предстояла встреча с памятником, который даже на маленьких фотографиях в книге Б. В. Гнедовского и Э. Д. Добровольской «Дорогами земли Вятской» выглядел чем-то изумительным.
Прошли через Лальск к переправе и двинулись вдоль реки по тропинке, но все равно, когда продирались через прибрежные заросли, вдыхая пряный аромат лабазника, выносило на пески. Довольно скоро на очередном повороте возник желанный силуэт, а за деревней Заборье уже казался совсем близким. Но на деле и от нее оказалось немало идти. И вот засеянное поле, группа елок — в таком окружении предстала перед нами церковь, которую по аналогии с Покровом на Нерли хочется назвать Покров на Лузе. Натура превзошла все ожидания. Здесь, вне Устюга, в 1729–1750 годах взметнулся к небу апофеоз устюжской школы, восполняющий, то, что отсутствует либо слабо выражено в региональном центре: изысканные пропорции целого и частей, особенно трех восьмериков. Не в лальском ли ареале ставили именно три восьмерика? Столько их на Благовещенском соборе и в Слободе. Были, наверное, высокие боковые деревянные крыльца. Колокольня, под которой расположен вход наверх, асимметрично пристроена с севера потом, хотя тоже в XVIII веке.
Декор, декор! Сочность потрясающая, без грубоватости, скажем, походяшинских церквей на Урале. Уж насколько любили в Устюге «бровки», но таких тяжелых там не сыщешь. Все наличники с колонками еще древнерусского, точнее строгановского, оттенка. Однако чем выше убранство, тем столичнее. Уступчатые картуши с сердцевиной, каковую не знаешь, как назвать: капителькой или «факелом». Овальные окна… Покров на Лузе — одно из сильнейших эмоционально-художественных впечатлений за всю мою жизнь. Но примешивалась и горечь за состояние такого шедевра: отсутствие кровли, трещины в стенах, сгоревшие полы [5]…
Менее чем за два с половиной часа мы обмерили верхний этаж: кроки Оля Даниловцева, наверное самая увлеченная из всех моих спутников по экспедициям, умеет делать сразу в масштабе. На пути обратно для сокращения пути вознамерились перебраться на тот берег. Но как? От края запани? От нее еще порядочно плыть, а девочки наши не умеют. Да и как быть с вещами? И тут, словно по заказу, подплывает подобие плотика. Кладем на него вещи и буксируем к берегу. Возвращаемся и сталкиваем в воду девочек, заставляя каждую держаться за бревно. Другой конец толкаем. Доставили их на сушу. Сами же еще насладились предвечерним купанием в теплой и чистой Лузе.
Третий выход был совсем недалеким, в Усть-Недум. Смотрим — в пустующей церкви бабки поклоняются яме. Попали мы на день памяти основателя некогда существовавшего тут монастыря, преподобного Леонида. Приехал даже патриарший фотограф — диво по тем временам! Впереди нас ждали Холмогоры [6], Архангельск, а Лие с Потаповым еще показалось мало — уплыли в Мурманск с возвращением через Кижи в Ленинград.
1. Думал ли я студентом в этот первый приезд, что через 23 года местная газета будет публиковать мои очерки о храме преподобного Стефана?
2. Спутником являлся Андрей Григорьев, позже заместитель директора свердловского областного НПЦ по охране памятников. Церковь, которую посещали еще Билибин и Грабарь, удивила нетронутостью ни «поновителями» XIX века, ни реставраторами. Теперь, однако, и ее перебрали, лишив аромата подлинности.
3. На обоих этажах стояли резные позолоченные иконостасы XVIII в., наверху даже с иконами. В 1980 году я просил Архангельский музей изобразительных искусств вывезти их. Вряд ли это сделали, чего доброго, досталось мародерам.
4. Уроженцем Ярокурской волости был каменщик Никита Горынцев, перебравшийся потом с сыновьями Данилой и Борисом на Вятку и многое там построивший.
5. С тех пор произошли изменения к худшему. Думаешь: вот где бы сейчас монастырь основывать? Кругом природа, уединение, была бы пустынь почти по-нестеровски. Возделывали бы землю, рыбачили и восстанавливали храм. Какое там! Современные монахи предпочитают места вовсе не пустынные, подавай городской комфорт. И никому этот памятник не нужен — ни чиновникам от культуры, ни епархии, которая о нем не может не знать.
6. Холмогоры и окрестности как-то умиротворяли своими ландшафтами, напоминающими скорее среднюю полосу, а не Север. Были мы на холме в Матигорах, на родине Ломоносова в Денисовке. А под Архангельском посетили Лявлю, Заостровье, Конецдворье с их деревянными церквами. Ну а областной центр хоть и обзавелся 24-этажным небоскребом, по-прежнему подходил под чье-то определение «доска — треска — тоска». Был он еще и полуголодным: даже молоко выдавалось только детям, чуть ли не по рецептам, и это в краю самых продуктивных в России холмогорских коров!
Опубликовано впервые: Десятые Уральские академические чтения. Екатеринбург : Уральское региональное отделение РААСН, 2005.
Обложка статьи: Великий Устюг на закате, 1982
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: