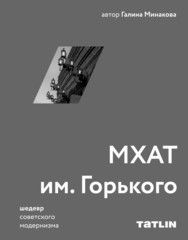Фасад МХАТа всегда был в центре критики. Плоский и монументальный, благодаря использованию стены-экрана, он немного дистанцируется от Тверского бульвара, создает контраст с окружающей его лирической обстановкой. Но стоит ли ждать от драматического театра лирики? Владимир Кубасов не намерен был разрывать связь внутреннего наполнения и внешнего облика. Театральный занавес он выносит на фасад в виде каменной стены. Поднимаясь по массивным ступеням, зритель уже присутствует на постановке, ждет поднятия занавеса, проникается духом места.
Фасад МХАТа им. Горького
- Текст:Галина Минакова14 ноября 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

С самого начала Кубасов хотел создать на фасаде образ театрального занавеса, но в первых вариантах складки камня были вертикальными. Эрнст Неизвестный даже предложил показать на нем руки, раздвигающие занавес, за которым будут находиться театральные маски, в глазах-прорезях которых видны силуэты актеров [1]. Дальше глиняного эскиза дело не пошло, отношение к Неизвестному в это время помешало воплощению идеи. Учитывая заинтересованность Фурцевой в строительстве МХАТа, можно вспомнить цитату из книги Эрнста Константиновича: «Фурцева, как женщина, была среди них наиболее искренна, она просто плакала: „О, Эрнст, прекратите лепить Ваши некрасивые фигуры. Вылепите что‑нибудь красивое, и я Вас поддержу, ну зачем Вы раздражаете товарищей, а Вы знаете, сколько у меня из-за Вас неприятностей, с Вами сейчас говорит даже не министр, а женщина, помогите мне удержаться на месте!“» [2] Но Эрнст Неизвестный не прекратил «лепить свои некрасивые фигуры», и Владимир Степанович вынужден был искать другой вариант. Он придумал установить четыре танцующие фигуры на колоннах, но и это решение не понравилось министру культуры Екатерине Фурцевой. На колоннах должны были стоять застывшие в танце латунные нимфы в античном духе. Когда Фурцева их увидела, то воскликнула: «А голых женщин одеть!» А ей сказали, мягко так: «Это не женщины, а нимфы… Мифология там, ну, знаете». Ответ министра культуры СССР был таков: «Мифология. Тогда вообще снять, убрать совсем» [3].
В этот момент и вспомнили о коллеге Кубасова по Дворцу пионеров — художнике Андрее Васнецове. Он предложил разместить на фасаде фонари — узнаваемую черту здания в Камергерском. Фонари стали не только оммажем историческому зданию, но и элементом, пытающимся прорвать монотонность и отстраненность образа фасада, вырваться в сторону улицы и объединить пространство. Установлены фонари на металлических пилонах (пилоны не являются работой Васнецова), сшивающих две разнородные плоскости — остекленную поверхность первого этажа и каменную стену-занавес. Они выступают в сторону Тверского бульвара суровыми металлическими пластинами, на которых изображены четыре музы: комедии, трагедии, танца и музыки.
Стоя на лестнице или каменной террасе театра, разглядеть их практически невозможно, отчего идея несколько смазывается. Для того чтобы увидеть муз, нужно выйти на открытый балкон фойе. К слову, сделать это не всегда возможно, ведь зимой балкон закрыт. Еще одна сложность с музами — манера исполнения: темным по темному, монотонно и немного равнодушно к случайному прохожему. Что поделаешь, Андрей Васнецов — известный мастер сурового стиля, зародившегося в 1950‑х как протест соцреализму. Основой этого стиля становится понимание молодыми художниками того, что реалистичное описание сложной жизни простого рабочего в послевоенные годы вряд ли возможно в приподнято-пафосном изобразительном ключе. На помощь приходят художники Александр Дейнека, Владимир Фаворский, Андрей Гончаров, у которых Андрей Владимирович учился после войны.
Да и стоит ли удивляться выбору темного металла для театральных муз, если знать, что первое монументальное произведение Васнецова было выполнено в годы войны
на куске обгоревшего кровельного железа. Обнаружив в списке знакомую художественную фамилию, командир полка обратился к Васнецову с приказом создать понятную художественную схему дороги от передовой до тылов. Васнецов вынужден был искать материалы самостоятельно, выменивая махорку на конский волос для кистей, и создавать краску из печной сажи [4]. «Столкнувшись с необходимостью все сделать самому, я интуитивно прошел очень серьезную школу понимания материала как ведущего элемента образной структуры», — писал Андрей Владимирович.
Но замечают Васнецова не благодаря этой фронтовой работе, а благодаря участию в оформлении иконы модернизма — Дворца пионеров. Васнецов придумывает фриз из бетона, расположенный над остекленной поверхностью концертного зала. Мятый бетон с выразительными пионерскими горнами был придуман, когда Васнецов смял лист ватмана и показал его Игорю Покровскому. Этот бетонный фриз перекликается с фризом из белого травертина, оформляющим ленту балкона здания МХАТа, стоя на котором мы можем полюбоваться васнецовскими музами. Работа над Дворцом пионеров и знакомит Владимира Кубасова с молодым монументалистом.
Стоит сказать, что мхатовские музы не были первыми в карьере художника. В 1970‑м Васнецов создает скроенных из металлического листа муз для тульского драматического театра, а годом позже для Музея комсомольской славы в Великих Луках он делает фигуры к рельефу «Славы», называя это игровым классицизмом. В этих зданиях музы и славы абсолютно художественны, они доминируют над функциональными модернистскими фасадами. В здании театра на Тверском бульваре Васнецов идет другим путем. Он скорее создает функцию — фонари — и лишь дополняет их художественными вставками. Художник понимает, что размещать здесь массивные металлические или бетонные композиции неуместно, это может разрушить связь бульвара со зданием. В итоге МХАТ получает довольно тонкое функционально-декоративное дополнение, привлекающее внимание будущего зрителя.
Но и внимание критиков тоже было получено сполна. Они отмечали «нордический» образ здания, связывая его скорее с Ибсеном, чем с Чеховым или Горьким. С этим замечанием сложно не согласиться. Особенно сурово выглядит терраса с разновеликими гранитными выступами. С одной стороны, она создает необходимую для крупного театра площадь, а с другой, площадь эта не читается, она растворяется в перепадах грубых ступеней и создает подобие подиума, отчего МХАТ становится еще более обособленным. Земля будто раскололась, вспенилась, ощетинилась, поднимая на себе здание театра. Принимающей стороне этот прием показался слишком ярким, и Кубасов, для вида, убрал один дальний пласт.
Терраса не должна была оставаться пустующей. Здесь предполагалось устройство фонтана и некой прогулочной зоны. В 2008 году Владимиру Кубасову пишет Татьяна Доронина с просьбой предложить что‑то для переформатирования пространства, ставшего прибежищем маргинальной публики. Автор предлагает для МХАТа интересную концепцию. Он называет новое пространство «Вишневый сад», использует шрифт, стилизованный под модерн, и вообще развивает чеховскую тематику. На террасе должны были появиться искусственные деревья с разноцветной подсветкой, скамейки и даже ограда. В этот парк Кубасов на эскизе помещает дам с собачками в объемных платьях и с зонтиками в руках. Стоит ли говорить, что это предложение так и осталось на бумаге? Финансирования не нашлось. Ибсен победил без боя. Но нужно ли было настаивать на ассоциации театра именно с Чеховым или Горьким? Ведь пьесы Ибсена в театре тоже ставили, причем ставили отцы-основатели.
Главный фасад тоже навевает не вполне чеховский дух. Стена из октемберянского туфа, встречающая нас своей тяжеловесностью и неким брутализмом, перекликается со знаменитым шехтелевским занавесом. Они действительно совпадают по колористическому решению и наличию горизонтальных линий-волн. Но не зная этого факта, стороннему зрителю довольно тяжело провести эту ассоциацию. Сам Владимир Степанович рассказывает, что чередование разновеликих камней туфа должно вторить движению автомобилей, проносящихся по Тверскому бульвару. Машины будто бы меняют направление складок занавеса, унося его за собой [5]. Это движение, волнение, напряженное присутствие в пространстве по духу напоминает горельеф «Море житейское», созданный Анной Голубкиной для здания в Камергерском.
Туф, как и большинство материалов театра, Владимир Кубасов лично отбирает в поездке по Армении. Когда здание показалось из-под лесов, и все увидели выбор цвета, разразился очередной скандал — все, очевидно, рассчитывали увидеть стерильный белый фасад. Фурцева вызвала Кубасова на заседание Моссовета, чтобы тот объяснился. Владимир Степанович принес макет с золотыми деревьями, подходящими по цвету, и положил рядом фрагменты туфа. Разобраться с Кубасовым призвали даже главного архитектора города, Михаила Васильевича Посохина. Но тот, вопреки всему, защитил молодого архитектора, предложив присутствующим довериться человеку со вкусом. Кубасов и сам мог постоять за свой проект. Председатель Мосгорсовета Самодаев, посмотрев на макет, сказал:
— Есть мнение, что театр должен быть белым. Вы должны посоветоваться с народом, Вы советовались?
— А Вы советуетесь с народом в своей профессии? — отпарировал
Кубасов. — Кто может советовать Вам, как поступать? Белый — это царский Большой театр, это мрамор и золото, он яркий и громкий. А это — драматический театр, как у Станиславского и Немировича-Данченко, мутный, зеленоватый, загадочный, как у Врубеля, — само подсознание. И, входя в здание, зрители должны почувствовать эту драму! Я выбрал показать им настроение и ввести зрителя в дух спектакля драматическим решением архитектуры.
По словам Кубасова, у присутствующих отвисли челюсти. И тогда Самодаев сказал Михаилу Посохину (главному архитектору Москвы):
— Ну-ка, разберись-ка с этим!
Нужно отдать должное Посохину, он ответил:
— Кубасов — автор. Знает и понимает характер театра. Он знает, что делает, и я его поддерживаю.
На следующий день на стройку приехал заместитель Самодаева с женой. Посмотрев на театр, он сказал: «Да! Я тебя понимаю и желаю успехов!» [6]
Михаил Посохин, в свою очередь, сразу после работы над МХАТом приглашает Кубасова участвовать в строительстве Центра международной торговли. Эта работа заставляет Кубасова не обращать внимание на критическую волну обсуждений его главного творения.
Все это здание — результат недюжинного самообладания, силы и стойкости Владимира Степановича Кубасова. МХАТ, подобно эпическому театру Брехта, отражает личность автора. Он не обезличен, но наполнен личным, наполнен силой и энергией своего творца. «Я чувствовал в себе такую творческую силу, которую хотелось выплеснуть в этом театре. Было ощущение бессмертности в возведении этого здания… Это все — я имею в виду все до одной детали — было продумано и родилось не зря. Это как целый комплекс самой природы. Все было органично именно для этого театра и здания для него. Это нельзя было не рисовать… Это нельзя было делать по-другому, надо было делать так. Я помогал театру проявиться из меня…» [7], — говорит Кубасов.
Под стеной-занавесом расположился открытый балкон, обрамленный лентой рельефа из белого травертина, перетекающей на боковые фасады. Лента обрывается стеклянным просветом, через который видно открытую лестницу, ведущую в фойе. Белую ленту травертина сменяет на фасаде черная лента габбро, будто разграничивая зрительскую и техническую части помещений. Сами стены боковых фасадов рассечены вертикальными узкими окнами со рваным ритмом, что придает им определенную динамику.
Михаил Бархин в критическом обсуждении, посвященном театру [8], обратил внимание, что при сложившейся транспортной обстановке Тверского бульвара стоило устроить выходы именно через боковые фасады — для более равномерного распределения потоков. Его смущал центральный выход, направленный в сторону остановки общественного транспорта, которая присутствует на этом месте по сей день. Бархин даже задавался вопросом, почему авторы не настояли на устройстве подземного тоннеля для общественного транспорта, будто бы можно было на этом настоять.
Боковые входы не были бы столь выразительны, как существующее решение. В стекло входной группы экспрессивно врезаны массивные деревянные двери с вырезанным рисунком, напоминающим работы суздальских мастеров. В ткань дверей вплетены бронзовые детали, добавляющие торжественности входу. Эти двери создавал лично Владимир Степанович Кубасов со скульптором Юрием Владимировичем Александровым, впоследствии оформлявшим комплекс туристического центра в Суздале. Фурнитуру для МХАТа выполняли на реставрационном комбинате Министерства культуры СССР, что обеспечило высокое качество деталей. Эти непривычные двери предваряют внутренние интерьеры, создавая то самое перетекание отделочных материалов между фасадом и интерьером.
[1] Степина А., Петрова А. Мир – театр. Архитектура и сценография. М. : Кучково поле, 2017. С. 377.
[2] Неизвестный Э. Говорит Неизвестный. Франкфурт-на-Майне : Посев, 1984.
[3] Из интервью Владимира Кубасова автору.
[4] Базазьянц С. А. Васнецов. М. : Советский художник, 1989.
[5] Степина А., Петрова А. Мир – театр. Архитектура и сценография в России. М. : Кучково поле, 2017. С. 378.
[6] Из интервью Владимира Кубасова автору.
[7] Там же.
[8] Строительство и архитектура Москвы. М. : Стройиздат, 1974. № 4. С. 30–31.
На обложке: Проект нового здания МХАТа на Тверском бульваре в Москве. В. С. Кубасов, А. В. Моргулис, В. С. Уляшов, 1972–1973
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: