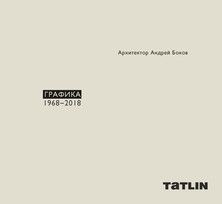Архитектурный рисунок как образ сновидческого мироздания

- Текст:Виталий Пацюков4 марта 2025
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
«В разные периоды существования зодчества появлялась потребность отображать некоторые его замыслы в виде архитектурных фантазий».
Яков Чернихов
«Каждая эпоха не только видит в сновидениях следующую эпоху, в сновидениях она ещё и стремится к пробуждению».
Вальтер Беньямин
Точка зрения на окружающую нас реальность постоянно меняет свои акценты и свою оптику. Она способна дистанцироваться от нас, отдаляя своё фокусное расстояние, и одновременно приближаться максимально близко, высвечивая новые качества пространства. Этот процесс обладает своей драматургией и своей историей, выявляясь как теория искусства, так и феномен науки, пронизываясь тотальной рефлексией. После космогонических структур Казимира Малевича, архитектурных фантазий Якова Чернихова, после пространственных парадигм великих архитекторов модернизма Ле Корбюзье, Фрэнка Ллойда Райта и Оскара Нимейера структурный образ нашего мира очень редко раскрывался в своей полноте. Продолжая существовать для нас в тех же традициях, этот образ не обнаруживал свои последующие пределы. Барьер был преодолён в начале 1980-х годов в связи с открытием фрактальной геометрии, бесконечно дробной в своей мерности, живущей в особом контексте с ньютоновым однородным пространством. Конфликт случайных, естественно ветвящихся структур, вихревых потоков пространства с его гомогенным состоянием был вызван не только методологией изучения его координат и энергий. Он проявлялся непосредственно в актуальности его образных реалий, построенных на визуализации не выявлявшихся прежде ноосферических систем.
Обнаружение интеллегибельного мира, его понятийных моделей совпало с ситуацией рождения особой оптики искусства. Пластический объектив Андрея Бокова можно рассматривать одним из свидетелей этой зоны сосредоточенности художественного внимания. Художник, архитектор и культуролог Андрей Боков исследует границу контакта устойчивых структур с их образами вибрации, свободной вариативной топографией. Их сложная и парадоксальная сеть образует новую геометрическую функциональность, мутацию линейного супрематизма, предусмотренную в начале 1920-х годов в теории Прибавочного элемента Казимира Малевича. Струящиеся потоки материи, динамика внутренних слоёв, органические искривления как форма роста, феноменальность кристаллизации элементов структуры, нелинейные каноны свободных конструкций — все эти визуально пластические шумы новейшей геометрии превращаются в объект особого внимания Андрея Бокова. Новизна его оптики обретается, с одной стороны, в тех пространствах, что прежде оставались в маргиналиях, с другой — в универсальном способе переживания и размышления, в инструментально-чувственном подходе, способном соединить личную и творческую биографию с историей художественного мышления и эволюцией архитектурных форм.
Пространственная рефлексивная образность Андрея Бокова сегодня оказывается в зоне самых радикальных художественных измерений, анархической игры скрытых сил-интенсивностей, позволяющих освобождаться от диктата личного монолога, сохраняя при этом формы персоналистической культуры. Внутренние структуры материи, её неожиданные рельефы, её магическая пейзажность, в которой сопоставляются горы, вулканы, воронки, башни и пещеры, её оплотнённые, материализованные духовные состояния, вступающие в диалог с медитативным формообразованием, оказываются способными прорвать гипноз привычных «линейных» образов современной культуры. Взгляд Андрея Бокова расшатывает классическую центрическую оптику, отсылаясь за пределы отдельно взятого артефакта, попустительствуя свободной жизни его резонансов и их предложений. В этом свете традиция культур представляется как энергия, объединяющая разрывы и пределы визуально-пространственного опыта, где реальность переживается как разрывы и протяжённости — ступени лестницы и пандусы, обладающие свойством возвышения и одновременно спуском в глубины пространства мысли. Она наделяется субъективностью, рождая потоки ассоциаций и обретая силу внушений. Это новое пространственное чувство переживает возвращение барочности, избыточности метрики, но в абсолютно сокрытых минимализированных состояниях — в самой естественности процесса рисования. Погружаясь в актуальность современной культуры, оно наделяется смыслом движущейся дороги, бесконечности её топографии, которую мы пересекаем как пространство цивилизации и одновременно как арт-территорию творческой мысли.
Свобода формы означает для Андрея Бокова прежде всего духовную свободу человека, открывая его в непосредственно созданных им пластических формулах. Эти формулы, приближённые к языку архитектурных рисунков и в то же время к языку пиктографии, погружённые в пластический текст, перестают быть изображениями какого-то объекта, они сами становятся объектами, содержащими собственную энергию и собственную волю к творчеству. В этой системе координат процесс рисования, как и процесс мышления, превращается для Андрея Бокова в строительство символического мира, где внутреннее пространство оказывается сильнее любого внешнего проявления. Оно таит в себе парадокс и неожиданности, его структура обладает сложной, взрывчатой топографией. В каждом рисунке, в каждой композиции, наглядно выражен путь её создания, вектор её драматургии, пауз и динамики движения. Фактически артефакт в этой системе становится слепком особого организма художника, его alter ego, персонажем, последовательно и органично проходящим через все фазы его истории: детство, юность, взросление, молодость, критические состояния-переходы. В этих композициях, в их скрытой технологичности, где, казалось бы, прячется безразличие к веществу, к природе материи, открывается уникальная образность пограничных состояний — связь с «поверхностью жизни», способность воздействовать не только на зрительные ощущения, но и на осязательные и моторные. Уводя зрителя в реалии сценической игры, они порой словно поднимаются над реальностью, манифестируя нам вид сверху, превращая артефакт в магический чертёж, в модель, в парящую конструкцию, выявляя прошлые архитектурные фазы универсальной матрицы и прогнозируя новые художественные возможности. В этой системе драматургия выстраивается по универсальным канонам и схемам, но вместе с тем она обладает непредсказуемостью и наполняется революционными случайностями. Её образ борется с образованием установочных тромбов, сгустков властных инструкций, опираясь на высший дар — дар жизни, её неотменяемого присутствия. В своей оптике художник наглядно демонстрирует энергию двух темпоральных механизмов: время неограниченных, творчески ритмизированных художественных поступков и остановленного метафизического мгновения, то есть завершённости, за которой следует великое НИЧТО, просвечивающие сквозь образ ковчега или мерцающие в высших мирах. Произведения, созданные в этом диалоге, репрезентируют личную, субъективную, но никогда не исчезающую объективно-пространственную реальность, явленную в уникальности высказывания. Время художественного свидетельства овеществляется, обретая слоистый объём, особую трёхмерность, оно начинает жить в двойственности реального и идеального. Феноменальность авторского жеста как следа, как отпечатка, как структуры кардиограммы поднимает вновь и вновь бесконечные вопросы о формах визуализации материи, превращение её в знак, обозначая напряжения между плоскостью и глубиной, тактильными и умозрительными состояниями.
Образы Андрея Бокова, погружённые в волшебную многослойность архитектурной мифологии и высокой культуры, в таинственные связи личных и универсальных художественных стратегий, в чистоту идеалов авангарда, предельно расширяют контекст современного искусства. Многомерные диагонали, создающие парадоксальные конфликты, разрывы, ниши, лестницы, ленты Мёбиуса, пронизывают пластические пространства художника. Архитектурные объекты обретают безвесие, сохраняя при этом монументальность и величие конструкции (тотемы, порталы и обелиски), их порядок, меняющиеся фазы и очертания.
Переживая современную культуру параллельно с размышлениями о внутренних пространствах реальности, её архетипах (пещерах, кратерах вулкана, шахтах), Андрей Боков привносит в своё искусство эстетику античного комментария, наглядность платоновского диалога мысли и образа. Художник соединяет древнегреческое «технэ» с леонардовским и дюшановским принципами художественного мышления. Он сознательно сталкивает непреложность идеалов классической архитектуры и феномен просветлённого мира детства, геометрическую логику Евклида и современную топологию многомерных пространств. Имя собственное классической архитектуры и предстоящая перед неназванностью умозрительность эксперимента, наглядно обозначенная реальность и чистая сущность, ещё не имеющая имени, — эти два полюса Андрея Бокова образуют универсальную двоичность: его личные инь-янь, живущие в спиралях, переходах и преобразованиях. Этот проект вводит в поле рассмотрения современного искусства образы нелинейного мышления, позволяя художественной мысли в этой системе строиться по принципу дополнительности, где целостность обретается не исключением противоположностей, а напротив, обнаруживает их единство — как вдох и выдох, как женское и мужское, оппозиция и согласие, радикальная реальность и пространство её мифологии.
Элементы каждой конструкции Андрея Бокова отражаются друг в друге, позволяя структуре реализовываться в модульной системе, раскрывающей генетический код, способный воспроизвести целое из своего атомизированного первоначала. В этой визуальной философии формально отсутствует человеческий образ, но он неизменно раскрывает свою сущность во внутренней драматургии артефакта, естественно соотносясь с мифом о Первочеловеке, где микрокосм и макрокосм не только органично связаны, но и тождественны. Подобное представление о человеческом теле как об агрегате-собрании органически конструктивных элементов обнаруживается ещё в поэтике Гомера и рассматривается во всех фундаментальных культурах как собранность, соединённость, взаимосвязанность и вместе с тем — потенциальная разъятость. Виртуальная функциональность и образность этого агрегата избыточны и одновременно аскетичны, его трёхмерная геометрия способна бесконечно расширяться и, вместе с тем, она минимизирована до предела. В этой конструкции телесного фактически заключён текст, его языковая мифология, живущая в противопоставлениях 0 и 1, расчленённости и целостности, дискретного, корпускулярного и волнового, множественного и единого. Архитектурная телесность как текст свидетельствует о понимании художником мира как уникального строения или магического алфавита, где каждый пространственный слой и элемент обладает смыслом и значением. В визуальной философии Андрея Бокова вибрирующая ось архитектурного пространства совпадает со скрытой вертикалью единого целостного мира, связывая небо и землю. Человек в этих осевых координатах всегда остаётся центром сакрального пространства, в своей конструкции образуя и символизируя крест, тотем, мировое древо, соединяя внешнее и внутреннее, всякий раз воспроизводя акт творения.
И всё же, где находится в этой системе сам автор? Казалось бы, действующий в своём процессе избирательно, оставляя зазоры и зияния, как говорил философ А. Зиновьев в «Зияющих высотах», и одновременно собираясь в плотные стеснённые зоны. И что же всё-таки перед нами — прямая реальность или виртуальная, фрагмент или целое? Ответ на этот вопрос, очевидно, скрывается в самой «автоархеологии» Андрея Бокова, в его умении существовать в иных логических структурах — не в «или-или», не «или то, или другое», а «то и другое одновременно». Эта позиция близка к сновидческим состояниям, озарениям, открывающимся поэтам. Её координаты определены квантовыми вспышками и волновыми процессами. Движение руки художника манифестирует в них органическую феноменальность самого творения. Оно напоминает маятник, не закреплённый в точках 12 или 6, а свободно движущийся по маршрутам фрактальной геометрии во внутренних измерениях композиции, подчиняясь принципам универсальной случайности. Его траектория не знает границ, она нелинейна, но именно в её иррациональной образности таятся смыслы художественной стратегии Андрея Бокова. Её сюрреалистичность, разрушая стилистические стандарты и клише, уплотняет и одновременно раздвигает слои времени и пространства.
Инструментальность художника словно осознаёт себя, становится сущностью, субъектом. Отмечая и чередуя слои белого и чёрного, превращая эти световые соотношения в симметрию двоичности. Архитектурные пространства всегда открываются как сигнал, как знак, обретая свой собственный порядок, то есть — выстраиваясь в текст. Пространство как текст — вот что объединяет весь проект и фактически генерирует диалог между началом и концом XX века, культурой классического авангарда и рождением постмодернистской рефлексии нового столетия. «Архитектурный текст» обладает собственным смыслом, актуализируется своим наложением на пространство и пишет единую историю человечества. И если генезис творческой мысли Андрея Бокова, его юность определяет «текст как пространство», то в период зрелости его позиция предлагает иную формулу — «пространство как текст». Впрочем, как ни парадоксально, временами парадигмы меняются местами, как партнёры в диалоге, превращая искусство в своего рода эксперимент, где вырабатываются совершенно особые условия жизни художественного интеллекта.
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: