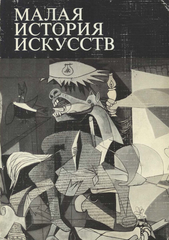Статья впервые опубликована в 1991 году в книге «Искусство XX века. 1901–1945
». В статье сохранены тональность, пунктуация и орфография на момент её первой публикации.
Обстоятельства, в которых находится история искусства ХХ
века, предостерегают от соблазна сформулировать или кодифицировать во введении
ее общие свойства. Это искусство кризисное в изначальном, словарном смысле
слова, выражающем наивысшую напряженность перелома. В его жизнедеятельности
проявляются закономерности и умирания старого и развития нового. Это старое и
новое не
располагаются в элементарной последовательности, а действуют во взаимном
пересечении, охватывающем глобальное пространство и обширное историческое
время.

Речь идет о художественных движениях, связанных с революционными
идеями и организациями. Это искусство самоутверждается в 20-30-х годах как
самостоятельная сила, заявляющая о себе как об олицетворении новой эпохи. Истоки
этих движений очевидны: прежде всего они уходят в социальный реализм прошлых
лет и в социальный авангардизм. Их итоги и результаты проясняются с последующим
ходом истории, которая показывает подъемы и падения этих движений. Рассмотрим
критически эти движения такими, какими они были в межвоенные десятилетия. В
СССР после 1917 года, в период революции в Венгрии (1918–1919), в
республиканской Испании, сражающейся против фашизма (1936–1939), в
освобожденных районах Китая в 30-40-е годы эти художественные движения приобретают
господствующее, общенациональное значение. Там, где это допускает политическая
обстановка, революционное искусство начинает в разных странах определять
собственный социальный статут. В 20-30-е годы широким фронтом создаются новые
организации, объединившие художников по идейным убеждениям. Ими были «Рабочий
совет по делам искусств» и « Ноябрьская группа» (возникли в 1918–1919 гг.) в
Германии, «Деветсил» (с 1920 г.) в Чехословакии, «Революционный синдикат
работников техники и искусства» (1922-1925) в Мексике, объединившие движения
20-х годов в Японии «Всеяпонская федерация пролетарского искусства» (1928–1931)
и «Союз пролетарского искусства» (1929–1934), «Союз корейских пролетарских художников»
(1925–1935), шанхайский «Союз художников левого направления» (1930-1935) в
Китае, «Джон-Рид-клуб» в США и «Левый фронт» в Чехословакии (оба — с 1929 г.),
«Товарищество новых художников» в Болгарии и «Краковская группа» в Польше (оба —
с 1931 г.), «Фригийский колпак» (1934–1937) в Польше, «Лига революционных писателей
и художников» (1933–1938) и «Мастерская народной графики» (с 1937 г.) в
Мексике. В Европе в конце 20-х - начале 30-х годов крупнейшими стали:
«Ассоциации революционных художников Германии» (в Берлине — с 1928 г., в
Дрездене — 1929 г., и др.), соединившиеся в 1931–1933 годах в «Союз революционных
художников Германии»; « Ассоциация революционных писателей и художников» во
Франции (1932–1935). В 1930 году было образовано «Международное бюро революционных
художников».
Многие художники концентрируются вокруг левой партийной
прессы — от «Юманите» во Франции (в 20-30-х гг. в газете сотрудничало более 130
художников) и «Роте Фане» в Германии до «Эль мачете» в Мексике и «Ризоспастис»
в Греции, от «Либерейтора» (выходил с 1918 г.) и «Нью массес» (выходил с 1926
г.) в США до «Красного смеха» (1919–1923) в Болгарии. В русле этого искусства,
объединявшего передовых графиков этих стран, завершают свой творческий путь
Т.А. Стейнлен и Г. Цилле, принесшие в новую эпоху традиции политического
рисунка XIX века, развивается творчество таких художников, как К. К. Кольвиц и
Ф. Мазерель, а также одновременно формируется искусство мастеров новых
поколений. Специального внимания здесь заслуживают шедшая к революционной
идеологии группа «Кларте», основанная деятелями французской культуры, которые
выступили в 1919 году во главе с А. Барбюсом в защиту культуры и гуманизма, против
шовинизма и войны, и одноименный журнал, выходивший с 1921 года (переродился к
1926 г.). Он дал первый опыт широкого интернационального объединения демократического,
гуманистического искусства. В нем публиковались работы советских художников
(Н.И. Альтмана, Д.И. Митрохина, К.С. Петрова-Водкина и других), антивоенные
работы немцев Г. Гросса и О. Дикса, жизнелюбивая графика А. Лота, А. Матисса, П.
Пикассо и других. Можно сказать, что вокруг «Кларте», а затем вокруг еженедельника
«Монд», издававшегося А. Барбюсом в 1928–1935 годах, образовалась своего рода
«парижская школа» демократического искусства. Именно в «Монд», где публиковались
работы художников Франции, СССР, Бельгии, Бразилии, Германии, Мексики, США и
других стран, начали свою публицистическую карьеру как французский карикатурист
Ж. Эффель, так и немецкий живописец и график М. Лингнер, явивший собой новый
тип революционного художника-интернационалиста.
Фото-альбом: Немцы
Деятельность этих организаций, групп художников и журналов
дала основу для самого широкого объединения в 30-е годы деятелей культуры,
выступивших против фашизма и объединившихся в таких международных организациях,
как «Всемирный комитет борьбы против фашизма и войны». В этот комитет в
середине 30-х годов влились члены распавшихся революционных объединений
художников. Таким образом, все эти специальные организации 20-х – начала 30-х
годов имели временное, преходящее значение. Их возникновение и исчезновение
вызываются главным образом политическими интересами, а не закономерностями художественного
развития.
История самого искусства не адекватна истории его
организационных форм. Она зависит от политических причин, однако распространяется
значительно шире деятельности и программ объединений и группировок. Попытаемся
же очертить собственную проблематику этого искусства, отметить, что внесло оно
в межвоенные десятилетия в мировую художественную культуру.
Особо мощный импульс оно сообщает тем видам творчества, которые
по своим содержанию, форме и способу общественного существования предполагают
энергичное воздействие на массовую аудиторию. Таковы тиражная публицистическая
графика, расцветающая повсюду, и монументальная живопись, развивающаяся там,
где, как, скажем, в Мексике, складываются для нее особо благоприятные условия
(нам предстоит специально рассмотреть их ниже).
Станковое искусство сосредоточивается на художественной теме
человека и среды, в которой выражает свое представление художников о социальных
конфликтах и демократическом типе героя.
В наследующих опыт жанровой картины рубежа XIX–XX веков полотнах американцев братьев Сойер и Р. Марша, в
лирической сцене на фоне заводских цехов X. Балушека «Вечер праздничного дня»
(1925, Берлин, Меркишес-музей) сочувствие человеку, затерянному во враждебной
ему среде большого города, приобретает сентиментальный привкус. Ожесточенное же
изобличение этой среды придает народно-бытовым сценам в живописи и графике
Ханса и Леа Грундиг, Р. Бергандера, К. Феликсмюллера и ряда других немецких художников
чрезвычайную резкость, переходящую в гротеск. Для многих художников характерным
становится острое ощущение воздействия на человека грозных социальных стихий,
смутно неясных в их реальной природе. Они оставляют свой оттиск на суровых
образах людей, тяжеловесно-грубоватых формах живописи французского художника М.
Громера («Фламандский косарь», 1924; «Война», 1925, обе — Музей современного искусства
Парижа), превращают реальную сцену в яростную и сумбурную драму чувств в
картинах немца Г. Эмзена («Расстрел», 1919, Ленинград, ГЭ), предстают как
символы всечеловеческих бедствий в графических циклах немецких художников О.
Дикса, О. Панкока на темы войны, голода и т.п., проникнутых устрашающей,
деформирующей все на свете экспрессией.
Социальный гуманизм дает другой поворот таким темам в
графических циклах К. Кольвиц «Война» (1920–1924, ксилографии), «Голод» (1924,
литографии), «Смерть» (1934–1937, литографии), в ее ксилографическом реквиеме
«Памяти К. Либкнехта» (1919–1920), в литографических плакатах, которые выполняет
художница по заказам компартии, и в ее антивоенных скульптурных произведениях
(памятник павшим близ Диксмёйде в Бельгии, 1924–1932; «Башня матерей», 1937–1938).
В русле такого искусства Ф. Мазерель создает свой жанр графических циклов — «роман
в картинах». Его образуют остро трактованные черно-белые ксилографии, которые,
подобно кадрам киноленты, складываются в сумме в изобразительное повествование,
позволяющее углубленно и многопланово развить обобщающую тему. В своих циклах
художник развертывает программу воинствующего гуманизма, выступающего в защиту
человека от угнетения и милитаризма, прославляющего светлую, солнечную идею,
пробивающую себе путь в мире, в реальном облике которого сплетаются его
увлекательная, многообразная красота и бесчеловечная жестокость («Крестный путь
человека», 1918; «Мой часослов», 1919; «Идея, ее рождение, ее жизнь и смерть»,
1920; «Город», 1925; «Сирена», 1932, и др.).
Фото-альбом: Второй блок
И наконец, революционные художники развивают новаторский
опыт воплощения в станковой картине темы человека и среды, понятых в их
социальной сути и увиденных в той сложности пространственной и временной
динамики, которую эта среда приобретает в реальной жизни XX века. Немецкий
художник К. Фёлькер в своей картине «Вокзал» (1924–1926, Галле, Гос. галерея
Морицбург) дает расширенную трактовку огромного, необъятного пространства и
движущейся по лестнице людской массы - целого социума, вмещая их в станковые
рамки с помощью веерообразно развернутой перспективы, которая напоминает
эффект, создаваемый широкоугольным объективом. Венгерский живописец Д. Деркович
не только запечатлевает многоплановое физическое движение («Вдоль железной
дороги», 1932, Будапешт, Венгерская нац. галерея), но в картине «Три поколения»
(1932, Будапешт, Венгерская нац. галерея), изображающей читающего рабочего,
отраженных в зеркале его жену и ребенка, висящий на стене портрет К. Маркса,
создает художественный образ движения истории. Кроме того, станковое искусство
предпринимает опыты объединения в одной композиции разновременных и разнопространственных
мотивов, что превращает политические картины таких живописцев, как много
работавший в СССР немец Г. Фогелер, в своего рода идеограммы.
В 20–30-е годы определился некий идеал единства идейности и
реализма. Под этим знаком сближались разные течения передового искусства. С
одной стороны, это было движение к реалистической изобразительности, которую
осуществляют сторонники авторитетных авангардистских течений. Средства
художественной выразительности, почерпнутые из экспрессионизма и близких ему
движений М. Пехштейном в Германии, из рационалистских движений Ф.В. Зайвертом в
Германии, П. Алма в Голландии и другими, сообщают их произведениям на
революционные темы эффект современного «левого стиля». Все это свойственно во
Франции картинам Э. Пиньона «Митинг» (1933) и «Смерть рабочего» (1936, Париж,
Центр Помпиду), серии гуашей Ж. Люрса «Крестьянская война» (до 1934, Москва,
ГМИИ), произведениям чехословацких живописцев Й. Чапека, Й. Шимы и других в
драматичных символических антивоенных и антифашистских композициях конца 30-х
годов. С другой стороны, это было движение, выраставшее из обширного массива
художественного творчества, укорененного в традициях национальной романтики,
неоклассики, в опыте реализма прошлых десятилетий. Из этих истоков формируется
творчество, которое судит о социальном смысле народной жизни, углубляется в
присущие ей конфликты и драмы. Они преломляются в духовном мире, в состоянии
героев картин болгарина X. Станчева «На ниве» (1936, София, Нац. художественная
галерея) и поляка Ф. Коварского «Странники» (1930, Варшава, Нац. музей),
крупные фигуры которых предстают на фоне широкого пейзажа; в событиях, которые
разыгрываются в многофигурных картинах румына Ш. Димитреску («Жертвы Кашина»,
1917, не сохранилась) и гравюрах на дереве серба Дж. Андреевича-Куна; в
действии, которым проникнуты статуи и рельефы венгра Л. Месароша.
Фото-альбом: Восточный блок
Существенными для 20-30-х годов становятся также проблемы
жизненной и художественной правды демократического образа героя. Им явился
тогда прежде всего образ рабочего. К рабочей теме и связанной с нею теме
революционной борьбы обращаются многие из названных выше художников, ей
посвящают свое творчество также графики многих стран: X. Геллерт, У. Гроппер,
Р. Майнор, Ф. Эллис и другие в США, Д. Кондор в Венгрии, А. Тасос в Греции, Я.
Рамбоусек в Чехословакии, 3. Хассе в Германии и т.д. Рабочая тема привлекает к
себе внимание Ф. Леже и А. Лота, воплощается в живописи А. Амелина в Швеции и
Н. Балканского в Болгарии и других. Она находит свое выражение в скульптуре Я.
Лауды и К. Покорного, в соединяющих живую характерность с пластической
обобщенностью форм терракотовых композициях О. Гутфрейнда («Промышленность»,
1923, Прага, Нац. галерея) в Чехословакии, в экспрессивных работах И. Фунева в
Болгарии (рельеф «В вагоне, третьего класса», 1935, София, Нац. художественная
галерея), в произведениях А. Августинчича в Югославии и в творчестве целой
группы молодых немецких скульпторов. Соображения о том, что свой герой требует
и своего способа художественного воплощения, вызывает в этом искусстве
стремление к безусловной и безоговорочной натуральности. Его герой должен изображаться
в своей естественной характерности, вне пластической или живописной красоты
стиля и даже вопреки ей, без какого-либо эффекта эстетической привлекательности.
Эта тенденция жизненной натуральности, однако, может легко перейти в свою
противоположность. Как только внеэстетическая характерность становится специальной
художественной задачей творчества, она сама начинает действовать как
эстетическая норма, подавляющая наблюдение над жизнью, и как заданная стилевая
манера, побуждающая трактовать образ человека в гротескном или
наивно-примитивизированном духе. С этим казусом столкнулся и понес урон ряд
художников: голландская художница Ч. Тоороп в картинах, запечатлевших народные
типы, немецкие живописцы О. Нагель в проникнутых вниманием к людям и
изобличающих уродующее воздействие жизни жанровых полотнах («Садовая скамейка в
Веддинге», 1927, Берлин, Нац. галерея), О. Грибель («Интернационал», 1928-1930,
Берлин, Музей немецкой истории) и др. Его избежали немецкий скульптор В. Ламмерт,
сумевший найти брутальную пластическую выразительность резкой жизненной правды,
сообщившую своеобразную красоту портрету К.Э. Остхауза (1930, уничтожен после
1933 г.), бельгийские живописцы К. Пейзер и П. Полюс, создавшие (как и Ф.
Мазерель в полотнах рубежа 20–30-х гг.) цельные типы суровых и сильных людей — рыбаков, моряков, шахтеров, немецкий живописец А. Франк, чей трагический
«Автопортрет в тюрьме» (1938, Дрезден, Галерея новых мастеров) озаряет несломленная
сила человеческого духа.
В заключение этого обзора революционного, демократического
искусства отметим, что в 30-х годах определяются две стороны его отклика на
главные события эпохи, два пути их эстетического воплощения. Искусство тех лет
с великим трагизмом отзывается на угрозу фашизма, бьет в набат, объявляя всеобщую
тревогу. В числе произведений этого борющегося искусства надо в первую очередь
назвать картину П. Пикассо «Терника» (1937). Одновременно в этом искусстве развивается
утверждающее, оптимистическое начало, рожденное в эти годы убежденностью в
осуществимость и истовой верой в осуществляемость социалистического идеала. Это
начало проявилось в плакатах, тиражной графике, монументально-декоративных
работах художников Народного фронта во Франции (в частности, в рисунках и панно
М. Лингнера). В этом ряду следует назвать созданную для Всемирной выставки 1937
года в Париже скульптурную группу В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница», которая
стала явлением интернациональной художественной культуры.
С этими идеями и проблемами политическое искусство мира вступает
в период мировой войны против фашизма.