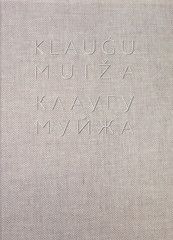Клаугу Муйжа — уникальный архитектурный объект, построенный по проекту мастерской Тотана Кузембаева в Латвии. Природа и архитектура здесь существуют в тесном взаимодействии. Проект родился в результате поиска новых архитектурных форм и экспериментов. В интервью с архитектором Андреем Ивановым Тотан Кузембаев подробно рассказывает обо всех этапах работы над проектом и скрытых смыслах.
Клаугу Муйжа

- Текст:Андрей Иванов22 мая 2024
- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет
— Тотан, кто и как выбрал место усадьбы? Что ты там увидел, что поразило? Какое было самое сильное первое впечатление?
— Место выбирали Петр Олегович Авен с Еленой. Но еще они долго выбирали архитектора. Сначала был архитектор из Риги… он даже нарисовал что-то. Ну я не знаю, может, им не понравилось. Или они искали альтернативу. Кто-то им рассказал про подмосковное Пирогово, где я построил несколько больших частных домов, и они решили туда поехать. И после этого Елена сказала: вот это мое, это я хочу. Спросила: кто архитектор? И назначила мне встречу. Я приехал. Она говорит: я была в Пирогово, мне нравится. А потом мы встретились там. Александр Ежков [заказчик и идеолог проекта «Курорт Пирогово»] возил нас на своем электрокаре, все показывал… Он же великий рекламист – так красиво все рассказал. И действительно там красиво.
И Елена сказала, что у них есть земля, где они хотели бы построить несколько домов – свой, гостевой, еще что-то. Два озера… Я представил себе лес, опушку, ровное место. А когда первый раз прилетели туда на вертолете, все оказалось вопреки моим представлениям: зеленые холмы, сопки, сопки… Вид сверху меня поразил – фантастически красивое место. И еще там есть дикие животные, много разных. А вот почему звери выбирают именно это место – не могу понять. То есть заказчики искали сочетание – чтобы и лес красивый, и было бы где охотиться, и люди хорошие… Прекрасный человек, например, тот же Оскар Вилциньш, который продал им эту усадьбу. Все как-то совпало.
— Значит, сначала ты встретился именно с Еленой?
— Да. Вообще инициатором всего этого Елена была. Потому что Петр, естественно, был занят работой, и, как я понял, поручил все ей. У нее уже был опыт – квартиру в Англии, дом на Сардинии обустроила она. Это была ее прерогатива. У нее был такой вкус, чувство какое-то непонятное. У Ежкова тоже есть такое чувство – чувство актуальности, чувство искусства – чего-то такого, что, как говорят, спинным мозгом чувствуют. Вот это все и у нее было. Очень они с Ежковым этим совпадали. Он тоже говорил: мне не нужен строитель, мне нужен архитектор – и пусть все решает он, будет, как он скажет. Вот это доверие к тебе как к архитектору – редкая вещь! Ведь у нас многие заказчики как начинают: вот у меня свой вкус, я знаю, как надо сделать. А здесь другой подход. Никаких требований нету, вроде «делай так – и все», а только мягкое: «наше пожелание вот такое», и, как говорится, ни в чем себе не отказывай. И когда ты вот так с заказчиком на одной волне, это счастливый момент в жизни.
— И ты сначала нарисовал какие-то эскизы…
— Конечно. Нарисовал эскизы. Сначала мы делали генплан, смотрели местность, и уже на месте мы с Еленой решали, где что ставить. Но когда мы начали, многое уже было предопределено. Там, где стояло большее здание гостиницы, они решили сделать гостевой дом и детскую часть. А там, где был маленький домик Оскара, на небольшом таком бугорке, – захотели поставить свой дом. А где на берегу была баня Оскара – устроить баню.
— То есть вы просто повторили старую планировку? И вам не пришлось, как лозоходцам, долго ходить по участку, вынюхивать, слушать голос места?
— Ну да. Потому что ведь и Оскар, прежде чем ставить свои постройки, тоже думал. Как города старые создавались? Когда человек приходил на новое место, он там долго жил, выбирал постепенно правильные места для тех или иных построек… Ведь и Оскар не за один день все это сделал – он там лет 20 жил. Все тысячу раз проходил, и до-о‑олго обустраивался, думал, где что строить. И когда мы пришли – посмотрели и поняли, что тут все правильно сделано, и ничего нового придумывать не надо, надо просто повторить это. Плюс были еще разные дополнительные соображения – конструктив, особенности почвы, требования «зеленых» по охране окружающей среды – вот исходя из этого и начали все расставлять. И старались ничего не испортить, не разрушить. Вот как сложилось там все, мы просто продолжили. Следовали принципу «не навреди». Мы не стали ничего нового предлагать – скажем, новый канал прорыть, или берега озер изменить, – ничего такого. И когда мы говорили с Еленой про благоустройство, она предлагала каких-то ландшафтников пригласить, цветы особые посадить, а я говорю: зачем? Здесь ведь уже и так очень красиво, естественно. Вот сорняк растет, – все это надо оставить как оно есть, потому что у вас ведь еще жилье в городе, а это же для совсем другого. Это в Лондоне надо газоны стричь – а здесь оставь, как само растет. Приходишь – дикая природа и какие-то здания на контрасте, – красиво. Мы понимали друг друга.
— А дорожки уже были? Въезд?
— Да, многие дорожки и въезд остались там, где они и были. Не было домика охраны. Хотели сделать его в другом месте, подальше, но охранники сказали, что должны быть в близкой доступности ко входу (время реагирования и так далее). Поэтому домик охраны поставили близко к воротам, где вертолетная площадка, заезд.
— А хоть что-нибудь от того, что было раньше, осталось? Вот там в лесу малюсенькая избушка на курьих ножках стоит. Это что такое?
— Нууу – старый домик какой-то… [не знает? — А. И.] На месте гостевого дома стоял новострой с коричневой крышей а-ля шале – под Москвой очень много таких, не жалко было сносить. Более-менее симпатичным был домик Оскара, который мы разобрали и перенесли в другое место.
— Где же он сейчас?
— Есть, в пределах усадьбы. Раньше мы в нем обедали после авторского надзора. А где сейчас баня – там была совсем маленькая банька, очень утилитарная. Ее разобрали. Принцип деревни там раньше был: маленькие скромненькие домики в природе… Но понятно было, что это не подойдет – не соответствовало требованиям заказчика. Нужен был фитнес-центр, бар и так далее. Но само место осталось – его выбрали до нас.
— О чем вы думали, когда проектировали ограду усадьбы: о надежности, прозрачности, о чем-то еще?
— Когда нам сказали, что площадь участка – около 60 га (сейчас, может, и больше), мы решили, что при таком периметре ограда может быть разной. Ограду со стороны въезда хотели сделать более презентабельной.
— А остальная – просто прозрачная сетка, чтобы не ходили чужие. А звери?
— И звери тоже не должны. Изучали историю латышскую, узнали, что был там такой Лиелвардский пояс – четырехметровый, передавался из поколения в поколение по женской линии в каждом роду – девушкам, когда они выходили замуж. У каждой семьи был на таком поясе свой уникальный орнамент. И в каждом районе орнамент отличался. Но нам же было неизвестно, какая именно семья жила в этом месте – и в итоге мы остановились на более-менее стандартном латышском орнаменте. И нам показалось, что забор – это как бы пояс, брошенный латышской девушкой в ландшафте.
— О, вишь ты как! Тут уже вы с моей идеей совпали! Точнее, я с вашей (в своей «Новой латышской сказке»). А предполагалось, что ограда будет прозрачной?
— Да. Сейчас, правда, она стала двойной [отстоящие друг от друга стальные листы, «перфорированные» знаками латышского орнамента] – у нас была однослойная, более прозрачная. Таким «поясом» мы хотели оградить входную часть. А дальше думали землю у сетчатой ограды засадить деревьями – чтобы забор как бы уходил в лес и там исчезал… Думаю, они еще реализуют эту идею.
— Глядя на архитектуру домов усадьбы, сразу отмечаешь их разнообразие. Гостевой дом – продолжение опробованных тобой в Пирогово архитектурных тем, все мотивы оттуда; он большой, деревянный. Банный – там больше разных материалов и более четко видна структура («ромашка с лепестками»). И совсем другой – третий, хозяйский дом. Такого экспрессивного дома у тебя, по-моему, вообще никогда не было. Это изначально была такая идея – сделать принципиально разные дома? В чем был смысл и был ли он?
— Конечно, был смысл! Когда мы только начали, я сказал: надо дать иерархию. Ты еще забыл про дом охраны – совсем минималистичный, черный, простая лежачая призма. Второй по иерархии – гостевой. Две крыши, которые пересекаются, более-менее спокойный, по крайней мере внешне. Третий по иерархии – банно-оздоровительный комплекс, тоже в общем спокойный, такой стеклянный стакан, в который «воткнуты» разные объемы.
И завершением всего этого должен был стать дом хозяев. Так что мы с самого начала стали изобретать разные формы-объемы, чтобы с каждым шагом сложность возрастала, и все нарастало, становилось круче, веселее, разнообразней… Вот такой сценарий был заложен. То есть там, где живут гости, – все попроще, общая зона; там, где купаются, занимаются спортом и куда попадают уже не все, – посложнее; и наконец, сложнее всего – там, где живут сами хозяева. И даже в отделке интерьеров эта иерархия соблюдалась. Вот такой принцип. Мы и в Пирогово его соблюдали (домик охраны – дом прислуги – главный дом), но такого масштаба – чтобы было несколько довольно больших сооружений разного назначения в одном владении – там не было. Разной ценности дома, соблюдающие иерархию, – это все было задумано нами. Поэтому и сложность конструкций, и сам материал, и внутренняя отделка – все к дому хозяина становится дороже, сложнее. И это я считаю нормальным, потому что если взять исторический опыт, то в больших усадьбах тоже бывали разные службы, дома прислуги, охраны – и они тоже различались материалом, декором и так далее, – такой естественный способ, давно сложившийся в архитектуре. Мы тут ничего нового не изобретали. Может, единственное новое у нас – формы современные. Можно сделать простую стоечно-балочною конструкцию, а можно очень сложную, такую, где все как бы само по себе раскручивается. Естественно, вторая дороже. От этого и пространство интереснее, и окна делаются по-другому, и так далее. И, конечно, мы все это заранее придумали – и так и проектировали.
— Откуда взялись вот эти сложные формы хозяйского дома? Как ты обсуждал их с заказчиками, как они к этому отнеслись?
— Там был холмик, на котором стоял маленький дом Оскара. Квадратов, может, 60. А они хотели дом метров в 500–600 квадратных. И на этот холмик такой объем ну никак не помещался. Поэтому, если не менять место, то все остальные площади должны были как бы парить. Так что основание занимает у нас примерно ту же площадь, что дом Оскара, а все вместе, понятно, гораздо больше. И вот можно было или одним прямоугольником воспарить, или двумя – сложив их под 90 градусов. И нам показалось, что если под 90, то это интереснее бы смотрелось. Там же два озера, и на них эти две «фаланги» как бы смотрят. Но если бы просто так сделали – тоже было бы скучно. Когда мы сначала под прямым углом согнули исходный прямоугольник, это показалось как-то не очень, не совсем подходящим по рангу. Этот дом должен был быть сложнее. Тогда мы его взяли и раскрутили, так – вш-ш‑ш‑шик – крутанули, и он получился как бы спираль, потом ее снова сложили под 90 градусов, и вот тогда вышла такая штука. Я сам очень долго делал макет из разных полосок… потом крутанул… согнул… – и вот тогда почувствовал: получилось.
Так же я и заказчику рассказывал про эту форму – и тут выяснилось, что Елена всегда любила консоли: «Люблю сверху смотреть. Чтобы дом как бы балконом висел, и эффект парения был». Так что и тут совпало! Может, она не до конца понимала, что получится, но идея ей очень понравилась: «Ой, я же и хотела консоль, и чтобы она парила». Я сказал, что да, но их будет две, и они будут как бы над озером парить. «Да! Я об этом мечтала». Вот совпало. Я же говорю, мы были как на одной волне – поэтому и получилось вот так.
— А не было ли желания поднять его выше? Ведь сейчас все постройки оказались примерно в одном и том же уровне. Да, дом парит, но мог бы, наверное, и еще больше парить?
— Я же говорю: там уже стоял дом! Мы на эту отметку свой и поставили.
— Но можно ведь было выше? Или вы вообще такой вариант не обсуждали?
— Можно было. Но не обсуждали – потому что хотели именно туда и поставить. Иначе надо было бы подсыпать холм, менять сложившийся рельеф. Ну не хотели. Хотели, чтобы все оставалось так, как есть там. Тем более что, когда мы проектировали, Елена сказала, что она не любит лестницы, не любит подниматься, спускаться. Поэтому появились мосты. Почему она их и одобрила – потому что с ними надо меньше по лестницам ходить. Мы даже думали, что хорошо бы и баню сделать на тех же отметках, и тогда все было бы в одном уровне – никуда вообще не спускаешься. Но этого не получилось. Вот ты говоришь, почему все разное? Я думаю, что если дом большой и если есть такая возможность, то надо и в каждой комнате все по-разному делать. В разные места заходя, ты можешь себя по-разному себя ощущать – искать внутри себя что-то, что в это время гармонирует с твоими настроением, мыслями, воспоминаниями и так далее…
— Кто придумал разместить в гостевом доме коллекцию? По-моему, сейчас, пока усадьба еще не очень обжита, этот уголок вообще является сердцем всего комплекса. Чья это идея? И рассматривал ли ты сами работы (живопись, фарфор) при проектировании, как они повлияли на проект?
— Что значит повлияли? Когда начали проектировать дом, Елена сразу сказала, что у них есть коллекция латышского фарфора, которая лучше, чем в собрании Латвийского национального художественного музея. И попросила, чтобы в доме были какие-то полки, места, где можно ее выставить. И живопись есть – значит, нужны стены, где картины можно повесить. И когда я это услышал, мне пришла идея в голову: а почему бы нам не сделать какое-то отдельное помещение, где все это можно разместить. Я эту идею высказал: может, вы захотите, как сейчас модно в больших усадьбах, дворцах, по воскресеньям пускать людей, чтоб они могли посмотреть. Раз вы хотите, чтоб люди видели, чтобы можно было людей пускать, показывать – тогда лучше отдельно стоящий объект. Чтобы не в коридоре или у кого-то в спальне… Так тоже, конечно, можно – в хозяйском доме есть полки для фарфора… Но все же нужно специальное помещение, где создаются особое освещение, температура, правильные условия для хранения. Плюс отдельный вход с улицы. Елене понравилось – и так появилась эта третья часть гостевого дома [помимо общественной и детской частей], которой поначалу в проекте не было. Должен был быть один объем – а теперь дом стал в плане как буква Y. Как раз это место раньше оставалось пустым. Мы поставили туда галерею, накрыли три части двумя крышами, объединили – а между ними получилась как бы крытая площадь. Внутри сначала хотели устроить множество стеклянных полок – чтобы все пространство было заполнено. Но люди, которые специально коллекцией занимаются, объяснили, как ее лучше выставить – на уровне глаз и так далее. Были большие сложности с пожаротушением и прочими техническими вещами, но мы как-то их преодолели. Конечно, были вещи, которые мы предлагали по-другому сделать. Например, поставить на тумбы в главном зале несколько самых ценных ваз, и чтоб там больше ничего не было. Но потом там на стенах решили еще и картины повесить – ну я не экспозиционер, и даже не знаю, насколько это правильно.
— Но саму коллекцию ты не смотрел?
— Еще как смотрел! Нам прислали картинки всего собрания, полностью, с размерами. И мы в проекте разрисовали все стены, расставили всю коллекцию. У нас сохранились распечатки: на прозрачной пленке напечатали в масштабе все фарфоровые изделия и на полки их булавкой прикалывали – где лучше. Но оказалось, что эти наши идеи не совсем совпали с тем, как видят специалисты, которые занимаются коллекцией. Мы-то расставляли, как нам казалось красиво, а они – как правильно будет восприниматься.
— Ну а сами образы – они повлияли на что-то?
— Нет. Мы этим не задавались. Они же все разные. Ну что, мы еще и на это должны реагировать? У нас была идея под каждый предмет сделать свою нишу. Но нам сказали, что экспозиции будут сменные, все будет время от времени меняться – и тогда мы решили сделать универсальные ячейки двух размеров (80×80 и 80×160 см), чтобы можно было свободно все переставлять. И еще свет должен быть не прямой, а рассеянный, мягкий. Мы предложили тогда шкафы сделать из кориана с внутренней подсветкой, чтобы все как бы изнутри светилось, и непонятно было, откуда свет, но с исполнителями в цене не сошлись. А сейчас свет спрятан, источников не видно – это пожелание Елены, так у нее и в Англии было сделано. Хотя я ездил специально по разным музеям, изучал устройство освещения, и в основном экспонаты освещаются прожекторами, отдельными светильниками. Но здесь уже решала Елена – «я хочу так».
— Тотан, что в этом проекте самое для тебя интересное? У тебя ведь, наверное, тоже есть какая-то личная иерархия – что-то получилось, что-то нет. Ты там что-то новое сделал для себя? Что было для тебя самым важным?
— Самое важное был заказчик!
— Да? Раньше ты всегда любил рассказывать о своих сложных отношениях с заказчиками – как боролся с ними, как ты их немножко обманывал, убеждая…
— Ну не обманывал!
— Ну ладно, играл с ними.
— Да, был диалог такой, скорее. И чтобы что-то сделать хорошее, приходилось прикидываться, изворачиваться… А здесь, наоборот, была свобода. Это идеальный заказчик был. А вот на такие вопросы, как «Что тебе удалось?», «Что тебе больше нравится?», – мне всегда очень сложно отвечать. Если я тебя спрошу, а какой ребенок тебе больше удался, сын или дочка? – что ты на это скажешь? Они одинаково все хороши, но и у всех у них есть свои недостатки. Я вообще не люблю все свои работы, после того как их сделаю. Я ненавижу их! Потому что я понимаю, насколько все это можно было лучше сделать, правильнее. Потому что там так много обстоятельств… Не только же заказчики – есть еще подрядчики, строители, поставщики…
Понимаешь, это все влияет. И у каждого какие-то свои недочеты, капризы… Плюс еще и свои собственные недостатки, ты сам что-то до конца не досмотрел, не продумал. И уже складывается такая печальная картина, ты расстраиваешься, потому что видишь: здесь надо было по-другому. И всегда надеешься, что следующую работу ты сделаешь лучше, да.
Это был определенный этап в моем архитектурном творчестве. Хороший этап, отличный – замечательный опыт. Когда еще будет такой опыт, я не знаю. Но все равно же человек думает: что-то еще будет, что-то еще другое сделаю, лучше… Вот ты говоришь, что еще раз хочешь туда поехать, посмотреть, походить… А я уже в декабре, когда вы туда ездили, не хотел с вами ехать. Я на свои старые объекты не хочу ездить.
— Переживаешь?
— Ну да, переживаю, расстраиваюсь… Я не люблю возвращаться! А с другой стороны, когда проходит какое-то время, и ты смотришь на свои работы, сделанные лет 10–15 назад, то думаешь: неужели я? Неужели я это придумал? Да не смог бы я сейчас этого сделать!
— Ну тогда последний вопрос. Петр Олегович назвал тебя в своем тексте «великим». Ты как к этому относишься?
— Спасибо Петру Олеговичу. Я первый раз такое слышу.
— Разве ты не читал его вводный текст к книге?
— Не читал. Я считаю, это какой-то аванс, я вообще не понимаю, что такое «великий». Это по размеру что ли, по весу?
— Ну вот он сказал, что его дома спроектировали выдающиеся мастера – Ники Хэслем в Англии и «великий Тотан» в Латвии.
— Ну спасибо ему, конечно. Лестно слышать. Архитектора мало кто хвалит. А когда кто-то похвалит, он окрыляется – бежит творить дальше… Я тоже не лишен этих чувств… Спасибо…
— То есть ты благосклонно принимаешь такую оценку?
— Ну конечно. А почему не принять? Если б покритиковали, я сказал бы – ну что ж, надо расти… А когда заказчик доволен – архитектору больше ничего не нужно. Я же для этого и делал. И всегда так делаю. И вот интересно: те, кому я строил дома, – все довольны. И [Анатолий] Карачинский, и Ежков, и [Леонид] Макарон [клиенты Тотана на «Курорте Пирогово»]… Встречаемся иногда – и они говорят: мы довольны, вот живем в твоем доме – и радуемся. И я думаю: а как это я что-то такое сделал, что людям нравится? Я сам не могу объяснить.
— Ну что ж, может, ты действительно хороший архитектор? Я был удивлен, конечно, такой оценке тебя со стороны этого человека.
— Я сам удивлен, знаешь. Ну может это потому, что, понимаешь, я свое «я» никогда не ставил выше заказчика. Принцип «кто оплачивает музыку, тот танцует девушку» – правильный в этом случае. Потому что если ты работаешь на частного заказчика, ты должен делать то, что он хочет. Это его право, он оплачивает. Если ты делаешь бюджетный заказ – можно ссылаться на СНИПы, нормы и т. д. Это другое дело. А здесь тебе говорят, например: хочу построить дом, а посередине чтоб был бассейн. И что, ты ему ответишь, что так нельзя, так не делают? Кто ты такой? Я бы и сам, если б заказчиком был, тоже бы сказал: хочу так. Прав я или не прав?
— Прав.
Обложка статьи: Общий вид
- Фото:Илья Иванов
- Поделиться ссылкой:
- Подписаться на рассылку
о новостях и событиях: